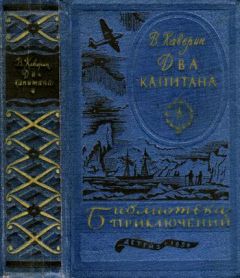Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось думают: «Дурак ты, дурак! Зачем ушел из дому? Подумаешь, приют, — весной вернулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа! А теперь ты остался один — умрешь, никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве да вздохнет тяжело тетя Даша! Проси-ка, брат, одежду да вылетай домой!» В Наробразе меняли одежду — старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду.
Все три дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем нетрудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспризорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет. Я сидел в стороне и молчал.
И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи и ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как-то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпученные глаза и попробовал вылепить зайца. Разумеется, это было еще очень плохо. Но что-то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мордочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту: никто не видел, что я леплю; старый вор, попавший каким-то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах «работают в паре». Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали заячьи уши, и не понимал, почему я волнуюсь…
Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. Лясы! Конь старика Сковородникова — вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины.
Не знаю почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул веселый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня. Помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку, помогут мне вернуться домой, а ему добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте, помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так я молился — не богу, нет! Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты.
Пожалуй, другой мальчик — не такой безбожник, как я, — стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они помогли мне!
На другой день в распределитель явилась комиссия Отдела народного образования; распределитель был уничтожен отныне и на веки веков.
Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники — в колонии, нищие — по домам. В просторном зале мастерской живописи и ваяния остались только греческие боги — Аполлон, Геркулес и Диана.
— А это что? — спросил один из членов комиссии, лохматый, небритый юноша, которого все называли просто Шура. — Посмотрите-ка, Иван Андреевич, какая скульптура!
Иван Андреевич, тоже лохматый и небритый, но старый, надел пенсне и стал изучать лясы.
— Типичная русская игрушка из Сергиевского посада, — сказал он. — Интересно. Это кто сделал? Ты?
— Я.
— Как фамилия?
— Григорьев Александр.
— Учиться хочешь?
Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я все-таки здорово натерпелся за эти месяцы голодной, уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо и отовсюду потекло — из глаз и из носу.
— Хочет… — сказал член комиссии Шура. — Куда бы нам его направить, Иван Андреевич, а?
— К Николаю Антонычу, по-моему, — ответил тот, осторожно ставя на подоконник моего зайца.
— А ведь верно! У Николая Антоныча есть этот уклон в искусство… Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антонычу?
— Шура, он его не знает. Запишите-ка лучше. Григорьев Александр… Сколько лет?
— Одиннадцать.
Я прибавил полгода.
— Одиннадцать лет. Записали? К Татаринову, в четвертую школу-коммуну.
Глава восемнадцатая
НИКОЛАЙ АНТОНЫЧ
Толстая девушка из Наробраза, чем-то похожая на тетю Дашу, оставила меня в длинной полутемной комнате-коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернется. Я был в раздевалке. Пустые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены — двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Энска я увидел себя. Вот так вид! Бледный мальчик с круглой стриженой головой уныло смотрел на меня — очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в наробразовской бане, но кое-где еще остались темные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня еще раз, длинные штаны болтались вокруг сапог.
Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антонычу. Это был полный бледный человек, лысеющий, с зачесанными назад редкими волосами. Во рту у него блестел золотой зуб, и я, по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него не отрываясь.
Мы довольно долго ждали: Николай Антоныч был занят. Он разговаривал с ребятами лет по шестнадцати, обступившими его со всех сторон и что-то толковавшими наперебой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне каких-то волосатых гусениц — кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен…
— Тише, ребята, не все сразу, — сказал Николай Антоныч. — Ну, Игорь, говори хоть ты.
Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, черного, курчавого, румяного, с черным пухом на щеках и под носом.
— Николай Антоныч! — торжественно сказал Игорь и покраснел. — Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в тринадцатое объединение и протестовать. Какая же это коммуна, если норму оставили, а членов прибавили? Кораблев говорит, что это борьба за кашу. А мы считаем, что дело в принципе. Если мы — коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядова мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмем женскую гимназию Бржозовской.
Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись.
— Вообще мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете.
— И останетесь в меньшинстве, — возразил Николай Антоныч и кивнул нам.
Мы подошли.
— Беспризорник?
— Нет.
— С Наробраза, — объяснила толстуха и положила на стол бумагу.
— Откуда ж ты, Григорьев? — читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антоныч.
— Из Энска.
— А как сюда попал, в Москву?