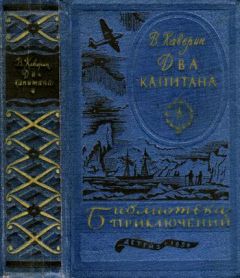Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись.
— Вообще мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете.
— И останетесь в меньшинстве, — возразил Николай Антоныч и кивнул нам.
Мы подошли.
— Беспризорник?
— Нет.
— С Наробраза, — объяснила толстуха и положила на стол бумагу.
— Откуда ж ты, Григорьев? — читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антоныч.
— Из Энска.
— А как сюда попал, в Москву?
— Проездом, — отвечал я.
— Вот как, милый! Куда же ты ехал?
Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже сто раз спрашивали, кто да откуда.
— Ну, мы с тобой еще потолкуем. — Николай Антоныч написал что-то на обороте моей бумаги из Наробраза. — А не убежишь?
Я был уверен, что убегу. Но на всякий случай сказал:
— Нет.
Мы ушли. На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что-то, а Николай Антоныч, не слушая, задумчиво глядел мне вслед. О чем он думал? Уж, верно, не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день в образе заморыша с темными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея.
Часть вторая
ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ
Глава первая
СЛУШАЮ СКАЗКИ
«До первого теплого дня», — иначе я и не думал. Спадут морозы — и до свиданья, только меня и видели в детском доме! Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чтения…
С утра мы ездили в пекарню за хлебом, потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое-кому пора уже было учиться в шестой.
Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас… Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила.
Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка: какие у нее крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живет и где ее нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «у-т-к-а» и читала что-нибудь об утках из Брема. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки утка так-то, а по-французски так-то. Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В общем, все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что-нибудь перепутала в этом методе. Она была старенькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой, так что мы, отвечая, всегда смотрели, который час.
Зато по вечерам она нам читала. От нее я впервые услышал сказку о сестрице Алёнушке и братце Иванушке.
Солнце высоко,
Колодец далеко.
Жар донимает,
Пот выступает
Стоит козлиное копытце,
Полное водицы.
«Али-Баба и сорок разбойников» в особенности поразили меня. «Сезам, отворись!» Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысячи одной ночи», что нужно читать не Сезам, а Сим-Сим, и что это какое-то растение, кажется конопля. Сезам — это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это просто конопля!
Без преувеличения можно сказать, что я был потрясен этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна.
В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормят да еще учат. Не скучно, во всяком случае не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо — наверно, потому, что я был маленького роста.
В первые же дни я подружился с двумя хулиганами, и мы не теряли свободного времени даром.
Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи желтые космы. Нос у него был приплюснутый, глаза неестественно круглые, подбородок квадратный — довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило.
Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик со множеством планов. То он собирался поступить в Зоологический сад учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. В пекарне ему хотелось быть пекарем; из театра он выходил с твердым намерением стать актером. Впрочем, у него были и смелые мысли.
— А что, если… — начинал он задумчиво.
— …землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти, — язвительно подхватывал Ромашка.
— А что, если…
— …живую мышь проглотить…
Валька любил собак. Все собаки по Садово-Триумфальной относились к нему с большим уважением.
Но все же Валька — это был только Валька, а Ромашка — Ромашка. До Петьки и тому и другому было далеко.
Не могу передать, как я скучал без него.
Я обошел все места, по которым мы бродили, спрашивал о нем у беспризорников, дежурил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроившись в каком-нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает!
Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная, снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площадях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где-то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и раскрашенный.
Художники-футуристы намалевывали странные картины на его стенах — людей с зелеными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты Роста:
Ешь ананасы.
Рябчиков жуй!
День твой последний
Приходит, буржуй!
Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал.
Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Наробраза, наш детский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит.