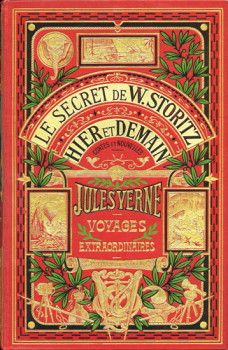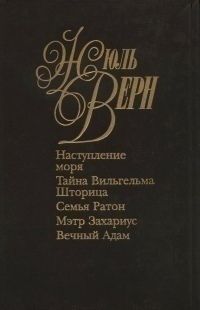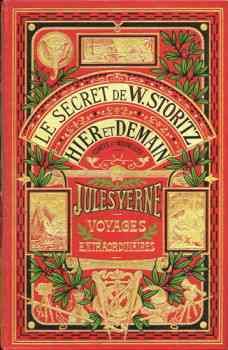— Стоит ли волноваться, старина,— успокоил я скорее себя, чем приятеля,— раз Марк ничего не пишет, вряд ли это серьезно. Но все-таки хорошо, что вы предупредили меня.
Уже прощаясь, я спросил:
— Не знаете ли, кто этот неудачник?
— Вильгельм Шториц.
— Вильгельм Шториц?! — Моему удивлению не было предела.— Сын Отто Шторица, немецкого химика, точнее алхимика?
— Да.
— Вот это сюрприз! Имя очень известное… Кажется, отец уже умер?
— Несколько лет тому назад, но сын жив, и, говорят, человек очень скользкий…
— Скользкий? Что вы под этим подразумеваете?
— Не знаю, как объяснить,— затруднился с ответом начальник полиции.— По слухам, Вильгельм Шториц — человек необычный…
Я расхохотался:
— Веселенькое дельце! Быть может, у нашего героя-любовника три ноги? Или четыре руки?
— Думаю, с ногами-руками у него полный порядок! — рассмеялся и мой собеседник.— Полагаю, речь идет скорее о моральных качествах Вильгельма Шторица, которого, как я понял, следует остерегаться…
— Поостережемся, старина! До момента, пока мадемуазель Родерих не превратится в мадам Видаль!
С легким сердцем я покинул участок и отправился домой.
Четырнадцатого апреля в семь утра я отправился в путь в дорожной карете.
Ничего особенного в первые дни путешествия не произошло. Страны, через которые мне пришлось проезжать, описывать не буду — они слишком хорошо известны.
Первой длительной остановкой был Страсбург[13]. Выезжая из города, я долго не мог оторваться от окошка кареты, любуясь знаменитым Мюнстером[14]. Величавая стрела кафедрального собора сияла золотом в солнечных лучах.
Много ночей провел я в карете, убаюканный скрипом колес по дорожному гравию. Однообразный шум усыпляет лучше, чем тишина. Позади остались Оффенбург[15], Баден[16], Карлсруэ[17], Ульм[18] и Вюртемберг[19], баварские Аугсбург[20]и Мюнхен[21].
На австрийской границе, в Зальцбурге[22], пришлось задержаться подольше. Но вот наконец, двадцать пятого апреля в шесть часов тридцать пять минут пополудни, взмыленные лошади вкатили карету во двор лучшей венской[23] гостиницы.
Через тридцать шесть часов предстояло продолжить путешествие — если учесть, что на эти часы пришлись две ночи, станет ясно — времени для знакомства с прекрасной столицей почти не было. Утешало, что на обратном пути здесь можно задержаться подольше.
Накануне я заказал билет на габару «Доротея»[24]. Пристань находилась на расстоянии лье от гостиницы. Пришлось воспользоваться каретой еще раз.
На корме судна скопилось много народу: немцы, австрийцы, венгры, русские, англичане… Переднюю же часть завалили ящиками и тюками до такой степени, что протиснуться туда не представлялось возможным. Трудно было отыскать местечко для ночлега в общей каюте, хотя бы какой-нибудь диванчик. Чемодан пришлось оставить под открытым небом возле скамьи, на которой я рассчитывал подолгу сидеть днем.
Попутный ветер и течение весело несли габару вниз по Дунаю. Воды красавицы реки не голубые, как утверждает молва, а скорее охристые, пенились по бокам судна. По водной глади сновали многочисленные суда с тугими парусами, груженные разноцветными овощами и фруктами. Часто встречались цепочки огромных плотов — целые плавучие деревни, похожие на амазонские плоты в Бразилии[25].
На Дунае много островов. Рассеянные по всему фарватеру[26] совсем маленькие клочки суши порой едва возвышаются над водой, иногда лишь на несколько дюймов, и ласкают взор свежей зеленью, купами плакучих ив, осин, тополей, пестрым разнотравьем.
Дома в прибрежных селениях сооружаются на сваях, и кильватерные струи[27], кажется, вот-вот унесут хижины вниз по течению. Не раз мы проходили под канатом, натянутым поперек реки, едва не задевая его мачтой. Канаты служили для перетягивания парома и держались на высоких шестах, увенчанных национальными флагами.
Остались позади Фишаменд, Ригельсбурн[28]. К вечеру «Доротея» достигла устья пограничной реки Моравы[29], левого притока Дуная, где мы и переночевали, а с рассветом двадцать восьмого апреля продолжили путь через земли, на которых в шестнадцатом веке ожесточенно сражались венгры и турки[30]. После недолгих стоянок в Петронелле, Альтенбурге и Хайнбурге[31], после теснины Порты открылся понтонный мост, и габара пришвартовалась к набережной Прессбурга[32].
Целый день экипаж выгружал товар, а я побродил по городу. Прессбург стоит на высоком мысу. Никого бы не удивило, если бы вместо спокойных дунайских вод у его подножия бурлило море. За живописными набережными угадывались силуэты величественных зданий.
Я любовался позолоченным куполом кафедрального собора, отелями и дворцами венгерской знати. На холме прилепился средневековый замок в феодальном духе с башнями по углам. Разорение и запустение царили там, и можно было бы пожалеть о нелегком подъеме, но с высоты открылся чудный вид на виноградники и прекрасно возделанную долину с переливчатой лентой Дуная.
Утром тридцатого апреля «Доротея» углубилась в пушту — что-то среднее между русской степью и американской прерией[33]. Пушта занимает всю центральную Венгрию. По бескрайним пастбищам с бешеной скоростью носятся табуны лошадей, в высокой траве вольготно пасутся стада буйволов и быков.
Здесь начинает петлять венгерский Дунай. Раздавшийся вширь, вобравший в себя крупные притоки с Малых Карпат[34]и Штирийских Альп[35], из скромной реки он превращается в могучую водную артерию.
В своем воображении я поднимался вверх по Дунаю до самых истоков почти у французской границы на восточном склоне Шварцвальда[36], и меня согревала мысль: это дожди моей родины дали ему жизнь.
Прибывши к вечеру в Рааб, по-мадьярски Дьёр, габара пришвартовалась у причала, чтобы остаться здесь на две ночи и день. Двенадцати часов мне вполне хватило для посещения города, более похожего на крепость.
Ниже по течению я увидел знаменитую цитадель Коморн[37], сооруженную в пятнадцатом веке Матиашем Корвином[38], где разыгрался последний акт восстания.