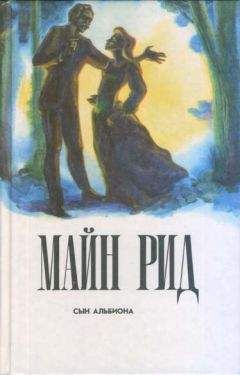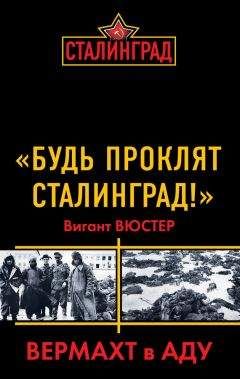Несколько смягчило представление о его трусости известие, что он весь день провел в отеле и что противник послал вызов только после того, как капитан уехал.
Однако вскоре эта задержка получила удовлетворительное объяснение, и больше всех для этого постарался Суинтон. Со стыдливым видом он излагал обстоятельства своего «похмелья», полагая, что никому не известно о письме, которое он получил от Рузвельдта.
И так как о нем действительно как будто никто не знал, общий вердикт был таков: герой М., как назвали его некоторые газеты, сбежал с поля битвы, на котором нельзя так нарочито демонстрировать свою храбрость.
Однако были и такие, кто не считал, что отъезд Мейнарда объясняется трусостью. Эти люди полагали или подозревали, что есть какой-то иной мотив — однако, в чем он заключается, они не догадывались.
Все же происшествие оставалось необъяснимым, и если бы капитан Мейнард покинул отель утром, а не вечером, его называли бы гораздо более презрительными именами. Он все же оставался в отеле достаточно времени, что в какой-то степени защитило его от поношения.
Тем не менее, он оставил поле боя мистеру Суинтону, который, благодаря бесчестному исчезновению противника, приобрел репутацию почти героя.
Лорд инкогнито кротко принимал свою славу. Он опасался, что Мейнард вернется, или что они встретятся в каком-нибудь уголке мира: в любом случае придется отвечать за торжествующее хвастовство. Поэтому он демонстрировал скромность, отвечая на расспросы:
— Пуоклятый тип! Ускользнул от меня, и я не знаю, где его найти! Ужасно неловко!
В таком виде рассказ распространился по всему отелю и, конечно, достиг номера, занятого семейством Гирдвуд. Джули была среди первых узнавших об отъезде Мейнарда: она сама была его удивленным свидетелем.
Миссис Гирдвуд только обрадовалась его отъезду, и причина ее не интересовала. Достаточно знать, что ее дочь в безопасности от его домогательств.
Совсем иными были мысли дочери. Только сейчас начала она чувствовать, как сильно хочется ей обладать тем, чем не суждено владеть. Орел слетел к ее ногам, позволил погладить себя. Но лишь на мгновение. Она отдернула руку. И теперь гордая птица с негодованием улетела и никогда не вернется к ней!
Она слушала толки о трусости Мейнарда и не верила им. Знала, что у его внезапного отъезда должна быть другая причина, и встречала сплетни презрительным молчанием.
Тем не менее, она не могла не сердиться на него. Гнев смешивался с раздражением.
Уехал, даже не поговорив с ней, не ответив на ее унизительное признание, которое она сделала, выходя из бального зала! Она опустилась перед ним на колени, а он ни словом на это не отозвался!
Она ему совершенно безразлична.
Когда она снова вышла на балкон, спустилась ночь. Джули стояла, глядя на океан. Молчаливая и одинокая, она видела огни парохода, которые, словно блуждающие огоньки, летели над потемневшей водой и наконец исчезли за укреплениями форта.
— Уехал! — говорила она про себя, подавляя тяжелый вздох. — Может быть, я его больше никогда не увижу. О, я должна постараться забыть его!
Глава XVIII
ДОЛОЙ ДЕСПОТОВ!
Было время — и совсем не «давным-давно», — когда каждое прибытие парохода из Европы в Нью-Йорк и его отправление становились большими событиями. Только «кунарды» приходили и уходили регулярно каждые две недели. Позднее они стали совершать плавания еженедельно.
Всякому, кто пересекал Атлантический океан на пароходе линии «Кунард», не нужно говорить, что место прихода и отправления находится на берегу Джерси.
В дни, когда каждое такое событие становилось праздником, на пристани «кунардов» собиралась толпа, привлеченная присутствием огромных левиафанов.[46]
Иногда зрителей привлекало другое — не сам пароход, а какая-нибудь известная личность: принц, патриот, певица или куртизанка. Веселый, легкомысленный Нью-Йорк не делает различий и одинаково почитает любую известность, все события вызывают у него одинаковое любопытство.
Одно из таких событий было особым. Уходила «Камбрия», самый медлительный и в то же время самый комфортабельный пароход на линии.
Теперь он уже давно с нее убран; если не ошибаюсь, его киль бороздит более спокойные воды Индийского океана.
А его капитан — храбрый, дружелюбный Шеннон! Он тоже на другом месте, где заботы о пароходе и атлантические бури его больше не тревожат.
Но о нем не забыли. И многие, читая эти строки, вспомнят его. У многих нью-йоркцев сердца забьются при воспоминании об этом отплытии.
Хотя толпа собралась на американской земле, здесь почти не было американцев. Физиономии были европейского типа, в основном тевтонские, хотя встречались и латинские. Рядом с северянином-немцем, с его светлой кожей и огромными рыжими усами, стоял смуглый уроженец Дуная; а дальше еще более смуглый сын Италии, со сверкающими черными глазами и блестящей черной шевелюрой. Тут и там было много французов того доблестного класса ouvrier,[47] который за год до этого и через два года после вышел на баррикады Парижа.[48]
Лишь изредка встречалось американское лицо или слышались слова на английском языке — произносил их зевака, случайно оказавшийся на этом месте.
В основном толпа состояла из других людей — тех, кто пришел сюда не просто из любопытства. Были здесь и женщины — молодые девушки, светловолосые, голубоглазые, вспоминающие свой родной Рейн; и другие — южанки, со смуглой кожей, но с такими же прекрасными лицами.
Большинство пассажиров поднялись на верхнюю палубу, как обычно при отплытии. Вполне естественно желание посмотреть, как убирают трап — обрывают последнюю нить, связывающую с землей, на которой они жили и испытывали самые разные чувства.
Но какие бы чувства — печали или радости — ни волновали пассажиров, все с любопытством разглядывали море лиц, собравшихся на пристани.
Стоя на палубе семейными группами или выстроившись в ряд у поручня, они спрашивали друг друга, в чем причина такого большого собрания и кто эти люди, составляющие толпу.
Всем было очевидно, что собрались не американцы; столь же очевидно, что собравшиеся не уплывают на пароходе. У них не было багажа, хотя, конечно, его уже могли отнести на борт. Но большинство было из того класса, представители которого не плавают на «кунардах». К тому же никаких примет прощания, никто не обнимается, не пожимает руки, как бывает, если друзья уплывают за море. Они не на той стороне Атлантики.
Стояли они тесными группами, мужчины курили сигары, а многие — большие пенковые трубки, серьезно разговаривали друг с другом или более оживленно — с женщинами.