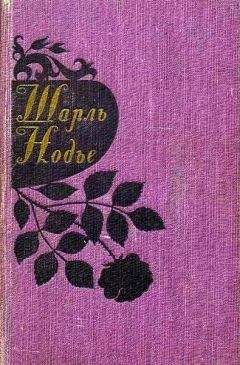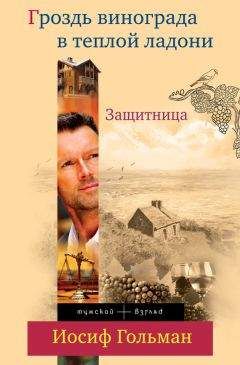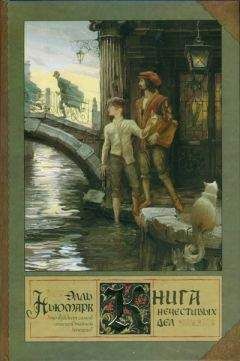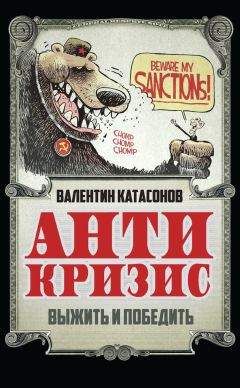Священным словом евреев является «золото». Существует способ так шепнуть на ухо судьям земным, что противник ваш упадет поверженным насмерть.
Ликургу явилась странная мысль, что воровство — единственное установление, способное поддержать общественное равновесие.
Полно тебе, юноша, собирать жатву в садах Тантала! Открой глаза на страдания человечества. Смотри: пропасть Курция все еще зияет,[21] и многим придется броситься в нее ради спасения мира.
Милостыня — это добровольное частичное возмещение убытков; нищий согласен пойти на мировую; начнем же тяжбу.
Выведите человека из лесной чащи и покажите ему общество; он не замедлит стать таким же развращенным и достойным презрения, как и вы, но все же ему никогда не понять, как может бесстрастный ареопаг хладнокровно отправлять на виселицу нищего за то, что он похитил крохи с пиршественного стола миллионера.
Трудно ответить на вопрос, что более отвратительно в жизни общества — злодеяние или закон, и что более жестоко — преступник или судья, преступление или кара. Мнения резко разделяются.
Убить человека в порыве страсти — это понятно. Но хладнокровно, обдуманно заставить другого убить его на площади под видом исполнения почетного дела — вот этого понять нельзя.
Страшно подумать, что равенство — предмет всех наших желаний и цель всех наших революций — действительно возможно лишь в двух состояниях: в рабстве и смерти.
Можно умереть от стыда при виде того, как народы бьются вокруг какой-нибудь идеи, словно муравьи за соломинку. Соломинка — это все-таки нечто, идея же — ничто.
Когда бедняк крадет у богача — это в конце концов, если обратиться к изначальным причинам, всего лишь некое возмещение, иначе говоря — справедливый переход монеты или куска хлеба из рук вора в руки обворованного.
Высшая степень свободы, которой может достичь народ, понявший, что стал властелином, — это право выбрать себе рабство по вкусу.
Есть одно препятствие к освобождению городов — это сами города.
Покажите мне любой город, улей или муравейник, и я покажу вам рабство; только лев и орел царственны, ибо они одиноки.
Злоба — социальный недуг. Естественный человек не более зловреден, чем любое другое животное. Человек цивилизованный внушает ужас или жалость. Сосчитайте этажи какого-нибудь дома и вспомните притчу о вавилонском столпотворении.
Если бы общественный договор[22] оказался в моих руках, я бы ничего не стал изменять в нем; я разорвал бы его.
Общество — это плод от древа познания добра и зла. С той минуты, как человек прикрылся лиственной повязкой, он облекся рабством и смертью.
Два совершенно противоречивых инстинкта уживаются в простом человеке — инстинкт сохранения самого себя и всего, что от него происходит; инстинкт разрушения всего, что ему внушили и приказали. Следовательно, общество ложно.
Все творения господа были задуманы с определенным назначением и целью. Если бы общество тоже входило в замысел его творений, жаворонок никогда не выводил бы птенцов среди спелой нивы, готовой к жатве.
Вряд ли найдется человек, чье сердце не содрогнулось бы от негодования и боли при виде гордого льва, брошенного в железную клетку и смиренно лижущего кровавую руку мясника, который приносит ему пищу. Что же должен думать человек, глядя на человека?
Чтобы политическое неравенство стало менее оскорбительным, почти все народы, которые не основывают его на преимуществах морального порядка, связывают его происхождение с благородными воспоминаниями или священными преданиями. Не нашлось еще законодательства достаточно циничного, чтобы признаться в том, что его установления суть установления денежной аристократии. Когда мы дойдем до этого, жизнь станет прекрасной, ибо все кончится.
Очень унизительно для рода человеческого, что в обществе рабы никогда не составляют меньшинства.
Что же еще нужно, чтобы сменить плохое место на хорошее, если у вас есть сила и численность?
Нет ничего легче, как убедить человека, что он зависит от человека в силу какого-то таинственного права, основанного на неведомом законе. Но как заставить его понять правду — что его зависимость есть попросту результат древнего земельного неравенства, которое не изменилось ни по форме, ни по протяженности и в любой день может стать предметом передела?
Пчелиный улей не принадлежит шершню, но полевые цветы принадлежат всем насекомым. Единственная нерушимая собственность индивида — это то, что он производит.
Правда ли, что большинство европейских монархов заботится о том, чтобы составить роспись поземельной собственности? Ну что ж!
Учреждать в наши дни монархию — затея, достойная жалости. Я бы не удивился, увидев келью отшельника в пепле кратера, но королю я не советовал бы воздвигать себе трон в глубине вулкана.
В последний раз натянуть лук Немврода — не такое уж диво, Наполеон. Десяток других делали это до вас. Ну разве только для того, чтобы сломать его.
Наши венецианские фейерверки заканчиваются огненным снопом, которым можно затмить полуденное солнце. Ночь после этого кажется еще темнее, и эта ночь принадлежит ворам. Завтрашний день «великой нации» — это ночь с фейерверком.
«Если бы вам и удалось выполнить ваши намерения, — говорят нам, — завтра пришлось бы все начать с начала». Велика беда — начать завтра все с начала! Нам так хорошо сегодня!
Когда перестаешь первенствовать в сердце другого, ты уже мертв. Остается только выполнить это на деле.
Уничтожая человека, общество глубоко уверено, что творит правосудие. Величайшее и высшее правосудие свершил бы человек, уничтожив общество.
Есть два преступления, к которым я беспощаден: когда причиняют зло тому, кто не может защищаться, и воруют у того, кто нуждается.
Все кары и проклятия на голову негодяя, укравшего собаку у слепого!
Дикарь с южного моря, меняющий женщину на топор, совершает неплохую сделку. Где та страна, где за топор нельзя было бы получить женщину?
У каждого человека в глубине сердца есть три заблуждения или три тайны, которые побуждают его жить: бог, любовь и свобода. Общество перестало бы существовать еще две тысячи лет тому назад, если бы несколько галилейских нищих не надумали сделать из этого религию.