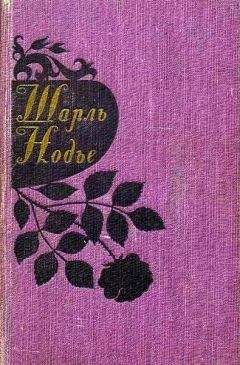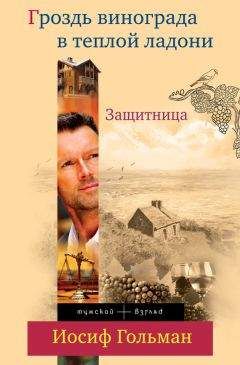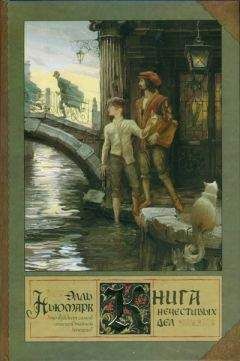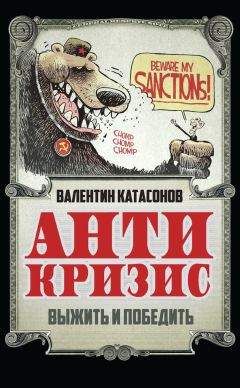Много ли вы знаете дельцов, которые поручатся хотя бы одним цехином своего пожизненного дохода за прочность этого последнего устоя политической жизни?
Я хотел бы, чтоб мне указали в истории хоть одну монархию, которая не была основана вором.
Когда нации вступают в свой последний период, их объединяет один клич: все принадлежит всем! И в тот день, когда знамя, на котором начертан этот девиз, будет смочено слезами ребенка, я сорву его с древка и сделаю себе из него саван.
Историю древних народов нетрудно рассказать, историю народов будущего нетрудно предвидеть: отцы, старейшины, мудрецы, священники, солдаты, короли… — Ну, а затем… может быть, народ?
Есть только три способа связать свое имя с дельфийским храмом:[23] надо его построить, освятить или поджечь.
Дайте мне силу, которая осмелится принять имя закона, и я покажу вам кражу, которая будет носить имя собственности.
Свобода — не такое уж редкое сокровище: она всегда в руках сильных и в кошельке богатых.
В твоих руках мои деньги, в моих — твоя жизнь. И то и другое не принадлежит ни тебе, ни мне. Отдай мне мое — и я отпущу тебя!
Тысячу состояний за одну лишь мысль! Тысячу мыслей за одно чувство! Тысячу чувств за один поступок! Тысячу благороднейших поступков за один волос — и весь мир, и грядущее, и саму вечность в придачу!
Он основатель новой секты — бедняга! Обновитель старой морали — бедняга! Законодатель — бедняга! Он завоеватель — какое ничтожество!
Если существует в мире хорошо устроенное общество — то в нем все делят между собой всё, награждая при этом самого сильного. Когда же к этому примешиваются коварство и измена, возникает законодательство.
Осталось, по-моему, только одно ремесло, которое пора разоблачить, — это ремесло бога.
Меня спрашивали иногда, люблю ли я детей. Еще бы! Ведь они еще не стали взрослыми.
Однажды все голоса земли возвестили, что умер великий Пан. Это было освобождением рабов. Когда вы услышите эти голоса вторично, это будет означать раскрепощение бедняков, и тогда снова начнется узурпация мира.
Из всех способов правления есть один, наименее возмущающий мое сердце, наименее позорящий человечество, — это деспотизм Востока, где притеснение народа объясняется хотя бы суеверием. Мне приятен тиран, который ведет свои род от пророков и состоит в родстве с небесными светилами. В Тибете он невидим, бессмертен, священен. Это хорошо, иначе и быть не может. Тирания и рабство суть два различных состояния, которые предполагают два различных типа людей. Самые презренные из людей — это рабы, которые признают тиранов, созданных по их подобию.
Следует возблагодарить свою счастливую звезду, если можешь уйти от людей, не будучи вынужденным причинить им зло и объявить себя их врагом.
Какая разница между преступлением и подвигом, между казнью — и апофеозом почестей? Только в месте, времени и презренном суждении бессмысленной толпы, которая не ведает истинных названий тех или иных вещей и наугад применяет те, которым научил ее обычай.
Стихийные бедствия — естественное явление природы, законы же — нет.
Наделять богов слабостями — это плохо сообразуется с идеей божества, как я ее понимаю, но утешительно для человека. Мне нравится, что Аполлон изгнан, что Церера страдает от голода у матери Стеллиона, что Венеру ранит Диомед, что змеи окружают в колыбели Геркулеса и что он погибает в муках от яда туники Несса, завещанной им своим наследникам.
Если б сердце мое могло уверовать… если б я должен был выдумать бога, я хотел бы, чтоб он родился в хлеву, на соломе; чтобы его спасли от убийц руки бедного ремесленника, прослывшего его отцом; чтобы детство его протекло в нищете и изгнании; чтобы он был всеми гоним, презираем вельможами, не признан царями, преследуем священниками, отвергнут друзьями, предан одним из своих учеников, покинут самым честным из судей своих, осужден на мучения вместо последнего из негодяев, исхлестан бичами, увенчан терниями, оскорблен палачами, чтобы он умер между двумя разбойниками и один из них последовал за ним на небо.
Боже всемогущий, сжалься надо мной!
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям…
Входящие, оставьте упованья!
Данте.
Со времени отъезда Лотарио грусть Антонии все больше и больше усиливалась. Она впала в состояние подавленности, тем более внушающее опасения, что, казалось, и сама уже не знала или забыла его причину. В ее печали не было ничего определенного; это было странное недомогание, от которого ее легко можно было отвлечь, но которое возвращалось к ней быстрее, нежели проходило. Ей часто случалось улыбаться, порою даже без всякого повода; на эту улыбку было больно смотреть, потому что выражение лица Антонии плохо сочеталось с ее душевным состоянием. Никогда еще она так не искала уединения. Почти все места, где она совершала свои одинокие прогулки, напоминали ей о Лотарио, но она никогда не произносила его имени. Она избегала разговоров о нем — можно было подумать, что она старается убедить себя, что Лотарио никогда не было в ее жизни, что он был лишь сном или видением бреда. Но зато она часто вспоминала отца и мать, о которых давно уже не говорила, и теперь, если случалось называть их, она не проливала, как прежде, слез, как будто ее отделял от них уже недолгий путь и ей предстояло вскоре соединиться с ними.
Г-жа Альберти видела в этом счастливый признак. Она решила, что одни воспоминания быстро уничтожат другие и что Антонии легче будет забыть у родительских могил горести, связанные с чувством, всей силы которого г-жа Альберти до конца не понимала. Поэтому она решила снова отвезти сестру в Триест; Антония встретила эту мысль с той равнодушной покорностью, которую только и способно было выражать теперь ее застывшее лицо и неподвижный взгляд. Впрочем, г-жа Альберти вовсе не считала, что все надежды Антонии погибли. Напротив, она была убеждена — и тут, в самом деле, не было ничего невероятного, — что странное поведение Лотарио лишь еще одно проявление его причудливого характера или затруднительного положения, что он не замедлит вернуться и упасть к ногам Антонии, чтобы предъявить ей свои права на счастье, превосходящее все те надежды, которые она дала ему.
Возможно, думалось ей, те самые причины, что породили необходимость странной тайны, которой он окружал свои поступки, помешали ему тогда связать себя узами: ведь они заставили бы его полностью определить свою жизнь, тем самым отдав ее во власть любопытства и рассеяв смутные слухи, неопределенность которых была ему, вероятно, необходима.