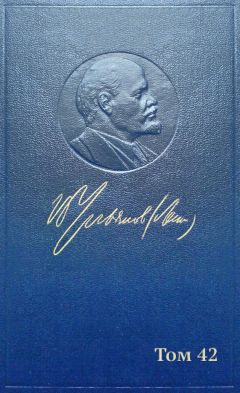— Похоже, ты давно подумывал о гареме. Едва ли мысль о принятии магометанства пришла тебе сейчас в этой суматохе.
— Я давно подумывал о тишине, спокойствии, изначальной мудрости.
Лицо Долинского — скулы, лоб, переносицу — покрывала болезненная серость. И только борода по-прежнему рыжела вызывающе ярко, точно парик.
— Не может быть такого дела, из-за которого стоило бы торопиться, — вспомнила Клавдия Ивановна.
— Только на Востоке могут сказать так хорошо, — вяло кивнул Долинский.
И вдруг резко, почти рывком, поднялся с дивана. Быстрыми мелкими шагами начал семенить по комнате, которая была очень маленькая, чтобы ходить по ней широкими шагами.
— Завтра сборы заканчиваются. И мы должны уехать. Уехать, уехать... Характеристики к утру следует перепечатать все, если даже для этого придется работать всю ночь. Ты поняла меня?
— Представь! — Она сузила глаза, недовольная то ли перспективой утомительной работы, то ли глупым вопросом.
— Твои чемоданы я заберу сейчас! — решительно сказал он. — Сегодня у меня есть машина. А что будет завтра, гадать трудно. Транспорт в наших условиях — надежда на жизнь.
— Есть еще ноги, — возразила она.
— Что ноги? — не понял Долинский.
— Ноги — тоже надежда, поскольку они в какой-то мере и транспорт. |
— Обстановка такова, что, ей-богу, не до шуток.
— Почему же, Валерий Казимирович? Чувство юмора, наверное, тоже надежда.
— Эта мысль только кажется бесспорной...
— Нет. Я твердо верю в нее... — Клавдия Ивановна сказала это почти с вызовом. И улыбнулась, чуть сощурив глаза.
Долинский равнодушно кивнул. Впрочем, может, не столько равнодушно, сколько устало. Попросил:
— Приготовь чемоданы.
Ушел в свою комнату, гремел там сейфом. Вернулся с широким увесистым портфелем. Неновым, но солидным. Из кожи. С двумя огромными позолоченными замками.
Чемоданы стояли у порога. Четыре. И все большие.
— Один я оставила, — пояснила Клавдия Ивановна. — Нужно будет переодеваться. И потом... Всего не увезешь. Да и стоит ли это делать? Женская одежда быстро выходит из моды.
Он сказал:
— Я пришлю за ними солдат. Ужинай без меня. Вернусь поздно.
— К этому я уже привыкла, — сухо ответила она, обиженно оттопырив губы.
— Надеюсь, ты не ревнуешь?
— Надейся... — Она теперь улыбалась безмятежно и даже чуточку наивно.
Сумерки запаздывали. Небо у моря простиралось безоблачное. И солнце висело над четкой линией горизонта, как вырезанный из бумаги круг, раскрашенный лиловой акварелью. Лиловые блики дрожали на воде, гнездились среди листьев, даже серая скала, что стояла близ дачи за поворотом дороги, была выкрашена сейчас в густо-лиловый цвет.
Белые буквы на черных клавишах пишущей машинки казались покрытыми тонкой сиреневой пленкой. Почему? От усталости или из-за призрачного, неестественного света, падающего в раскрытое окно.
Клавдия Ивановна закрыла глаза ладонями. Откинулась на спинку стула. Почему-то вспомнила ясный вечер очень далекой осени 1912 года. Старая шаланда возле пристани со свернутыми парусами. Такой же лиловый закат. И гимназист из выпускного класса, пытающийся обнять ее, совсем еще юную-юную... Удочки как струны уходят в море. Поют чайки. Мечутся и поют...
Загорелая женщина в зеленой юбке до самых пят прямо на пристани продает молодую кукурузу. Желтоватые початки лежат в круглой корзине из ивовых прутьев, дышат серебристым паром.
Пар виден лишь по краю, овальному, прикрытому льняным полотенцем, расшитым яркими крестиками. А выше, за корзиной, седые от соли доски тянутся до берега, к бетонным опорам, на которые приналег причал».
Она не помнит, как звали того гимназиста. Кажется, Вова или Витя. А может, Вася... Они целовались потом под тополями. И тополя что-то шептали им...
...За окном, перед дачей, был развод караула. Громко подавались команды. Солдаты топали сильно, но недружно. Звуки не ложились, а сыпались, как град по стеклу.
Поправив прическу, Клавдия Ивановна спустилась в столовую. «Семинаристы» уже поужинали. Запах табака плыл из бильярдной, оттуда слышались голоса. Солдат, исполнявший должность официанта, поставил перед ней тарелку с жареной рыбой и стакан чаю. Сказал вежливо:
— На здоровьице...
Он был стар, некрасив. Белый фартук на нем казался нелепым...
В половине десятого, когда стемнело уже плотно, Клавдия Ивановна при свете свечи вставила в мину взрыватель. Мина в чемодане лежала среди брусков динамита, прикрытых старым плащом. Клавдия Ивановна подумала, что теперь, после того как Долинский увез все ее вещи, плащ, хотя и старый, может пригодиться. Она вынула его из чемодана, перекинула через спинку стула. В комнате запахло нафталином. Это напомнило дом. Клавдия Ивановна не знала свою мать, умершую при родах. Но отец, суеверно боявшийся моли, все вещи в доме пересыпал нафталином...
Она не имела понятия об устройстве мин и взрывателей и не без страха нажала кнопку, как учил грек Костя, опасаясь, что в ту же секунду сверкнет пламя и раздастся взрыв. Пламя действительно сверкнуло, но не в чемодане, а за окном... Перекат грома послышался вскоре. И Клавдия Ивановна поняла: гроза начнется с минуты на минуту.
«Сорок минут! — вспомнила она слова грека. — Сорок минут у тебя есть».
Без торопливости надела плащ. Вынула из папки документы, свернула в трубочку. И спрятала во внутренний карман плаща. На буфете стояла нераскупоренная бутылка шампанского. Клавдия Ивановна выстрелила ею в потолок. Шампанское было теплым, пенилось бурно. Мелкие пузырьки ложились на хрустале. А на стеклах распахнутой рамы уже ложились капли дождя.
Часы в золотом медальоне отец подарил ей в день окончания гимназии. Клавдия Ивановна никогда не носила их на цепочке, тонкой и витой, потому что не любила украшений. Она считала — украшения придают ей несколько вульгарный вид. И очень хорошо обходилась без них. А часы спокойно тикали на дне ридикюля, рядом с расческой, помадой, носовым платком...
Красные стрелки, казалось замершие над циферблатом, показывали без двадцати десять. Десять минут проскочили как одна. Клавдия Ивановна дунула на свечу. Рыжий уголек, над которым, чадя, вилась узкая струйка копоти, изогнулся, вытянулся на мгновение. Загас...
В коридоре дремал полумрак. Керосиновая лампа, прикрепленная возле лестницы на обшитых деревом панелях, светила вполсилы. На первом этаже в холле горели три лампы. В бильярдной была тишина. У входной двери на кресле сидел казак. Длинные ноги его, обутые в тщательно начищенные сапоги, были вытянуты. Он равнодушно смотрел на приближавшуюся женщину, не меняя позы.