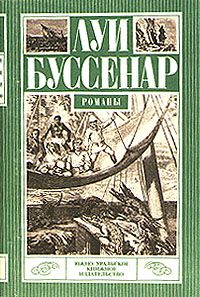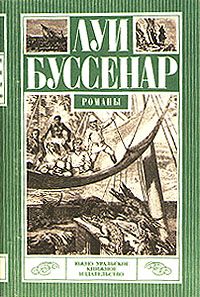— Однако позвольте вас поздравить. Вы здесь генерал и командуете армией, хотя и черномазой. Это всегда очень лестно.
— Что ж, от безделья и то рукоделье. А моему приятелю Сунгойе очень хочется попасть в монархи.
— Удивительно! Жандарм — творец королей! — пробормотал про себя Фрикэ и прибавил вслух: — Вы, значит, скоро собираетесь посадить его на здешний трон?
— Да, Фрикэ. А пока вот обучаю его воинов.
— Удивляюсь одному: неужели они понимают ваши команды?
— Не понимают, а все-таки исполняют… механически.
— Как это так?
— А как у нас в армии: разные инородцы не понимают ни слова по-французски, а команду заучивают? Так же вот и они.
— Это правда.
— И мои здешние рекруты не очень тупы: как видите, в одну неделю обучились всему. Правда, у Сунгойи есть очень действенное средство для развития понятливости.
— Понимаю. Что-нибудь в немецком вкусе, мордобой, палки…
— Совсем нет. Он просто объявил с самого начала, что тем, которые окажутся бестолковыми, будет отрублена голова. Вы представить себе не можете, как подействовало это нехитрое средство. Однако пойдем в хижину. Таким важным персонам неприлично долго беседовать под открытым небом. Да и форму мне хочется скинуть: хоть она и впечатляет, зато жарко в ней невыносимо.
— Это вы ее так бережно увозили в чемодане, когда покидали улицу Лафайета?
— У меня во всем доме только одно и оставалось, чем я дорожил.
Сказано это было с таким чувством, что вся комичность положения, в котором находился старый солдат, как бы на время отошла на второй план. Не хотелось больше смеяться над его непризнанным генеральством и над тем, что он всю эту глупость принимал всерьез.
— Как monsieur Андрэ… отнесся… к моему… бегству?
— Очень жалеет и послал меня за вами.
— Я не вернусь на яхту, пока там моя жена. Лучше сделаюсь канаком и умру здесь.
— Ну, вот, что это вы! Желтая лихорадка не век будет продолжаться, и monsieur Андрэ отправит вашу дражайшую половину в Европу с первым же почтовым пароходом. Я и сам буду рад, когда она вас покинет. Знаете, как только она появилась, на нас посыпались несчастья и беды. Сломал себе ногу monsieur Андрэ, потом…
— Что вы говорите?.. Monsieur Андрэ? — Жандарм побледнел.
— Доктор говорит, что ничего опасного нет, но шесть недель нужно лежать, а для энергичного человека это очень тяжело. Не случись несчастья, он бы тоже был здесь. Но это еще не все. С вашей женой тоже случилась неприятность.
— Вот что, Фрикэ. Я вас очень люблю и очень дорожу вашей дружбой. Ради этой любви и этой дружбы дайте мне слово никогда не упоминать о моей жене. Я ее имени не желаю больше слышать. Хорошо?
— Извольте, но только я вам должен сначала сказать…
— Довольно. Ни слова. Вы мне обещали.
— Ну, как угодно, — сказал Фрикэ. — В конце концов, дело не мое.
Друзья шли в это время по бесконечно длинной улице с многочисленными хижинами по обеим сторонам и красивыми тенистыми деревьями.
Позади хижины вся поляна была очищена с помощью огня от пней, и на ней в изобилии росли бананы, маниоки, сорго, просо.
Это селение было гораздо благоустроеннее и опрятнее других деревень, встречавшихся вблизи морского побережья. Бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, имели привлекательный и даже кокетливый вид.
Фрикэ и Барбантон подошли к дому, превосходящему других по размеру. У дверей стоял часовой, молодецки взявши на караул. Барбантон отдал честь.
— Мы пришли, — сказал он.
Претендент на престоле. — Монарх — добрый парень. — Фрикэ узнает, что и он входит в состав правительства. — Три недели ожидания. — Военное перемирие. — Одно мучение. — Барбантон и "орлиный взгляд". — Наполеоновские позы. — Александр Македонский из Судана. — Не на что прицепить знаки отличия. — Воспоминание об украденном фетише. — Тревога. — Сунгойя пьет нашатырный спирт и готовится к битве. — Бой. — Обходной маневр. — Армия в плену.
Через единственную дверь Фрикэ и жандарм вошли в просторную комнату, в которой стояли два огромных дивана, плетенных из пальмовых листьев. Эти диваны могли служить и кроватями.
Меблировку дополняли грубо сколоченные скамьи, вещи из европейского обихода самого разнокалиберного характера и множество сундуков.
На одном из диванов восседал, поджав под себя ноги по-турецки, негр в матросских брюках на трехцветных подтяжках и во фланелевой жилетке.
Вокруг него на сундуках сидели негры вовсе без всякой одежды, но в полном вооружении. Перед каждым стояло по посудине с сорговым пивом.
Ведь было так жарко!
Человек, сидевший по-турецки, подал вошедшим европейцам левую руку, правая у него была занята: он ею гладил свою поджатую ногу. Потом он сделал величественный жест, приглашая их сесть рядом с собою.
Парижанину он, кроме того, бросил ласковое приветствие:
— Здравствуй, муше!
— Здравствуй, Сунгойя, — отвечал Фрикэ. — Вот ты теперь во всем великолепии. Очень рад тебя видеть.
— И Сунгойя рад видеть белого вождя. Белый вождь поможет Сунгойе одержать победу.
— Рады стараться, ваше величество, — шутливо отвечал Фрикэ. — Сделаем для вас, что можем, хотя вы и убежали с "Голубой Антилопы" довольно бесцеремонно.
— Мой пошел с Бабато… Бабато большой генерал.
Негры постоянно коверкают иностранные слова и в особенности имена собственные.
— Правда, мой жандарм выдающийся военный и притом глубокий теоретик.
— Великий вождь муше Адли не приехал?
— Нет. Он выезжает только в случаях особой важности.
Про сломанную ногу парижанин не нашел нужным сообщать негру.
— Впрочем, — прибавил он, — довольно будет и одного Барбантона. Не правда ли, генерал?
— Разумеется, — отвечал жандармский унтер, польщенный отзывом об его военных способностях. — К тому же главное сделано.
— Действительно, я ожидал, что застану вас сражающимися, а вы тут преспокойно благодушествуете, спихнувши прежнего правителя с трона. Очень рад за Сунгойю; ведь это наш бывший служащий, выражаясь деликатно, а теперь — глядите-ка! — какая важная персона.
А в сторону парижанин прибавил:
— Вот бы напомнить, как он стащил у генеральской супруги медальон-фетиш. Но нет! Молчание! Барбантон не желает слушать… Странная, однако, бывает судьба: товарищ мой попадает в генералы, а лотерейный билет его жены превращается в талисман для негра-претендента и обеспечивает ему успех в государственном перевороте. Тут есть над чем пофилософствовать. Но — молчание, молчание!