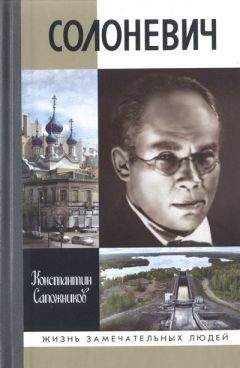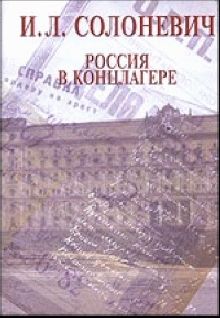Он решительно тряхнул головой и посмотрел кругом.
В комнате было темно. На столе в стеклянной пепельнице догорал листок бумаги. Тоненькие несмелые струйки огня бегали по коряво написанным строчкам загадочного письма, и светло-синий дымок вился над ними капризными струйками.
Улица бросала немного света в комнату. Темным силуэтом выделялась за столом небольшая фигура хозяина, и короткая трубка своими вспышками обрисовывала светлую линию седых усов. В позе мыслителя застыл в углу массивный человек. Рядом скорей угадывался, чем был виден, силуэт женской фигуры, прислонившейся к его плечу. Все молчали и пристально смотрели на последние блики огня, уничтожавшего бумажку, над которой все они так напряженно думали.
Юноше с его кипучей жизнерадостной натурой молчать, видимо, дольше стало невмоготу.
— Ну и ну! Ей Богу, тут без бутылки никак не разберешь!
Этот звонкий голос, казалось, разбил очарование. Старик шевельнулся, вытряхнул из трубки тлеющий пепел на остатки бумаги в пепельнице и тщательно размешал все своей «носогрейкой».
— Без бутылки? медленно переспросил он мягким голосом. Нет, Сережа, ясная голова с бутылкой несовместима. А тут для решения этого дела нужна очень ясная голова. Я ведь не зря вас сюда, ребята, позвал. Мне решение этой загадки уже не под силу, да и прыгать между зубами ГПУ — не по моим годам. А мне почему то очень кажется, что в этом таинственном деле без внимания ГПУ никак не обойтись… Вот поэтому то я и решил сжечь это письмо, чтобы уменьшить ваш риск, если вы за это дело возьметесь. Надеюсь, что вы хорошо запомнили все, что в нем было написано. А беретесь ли вы за это дело — повторяю — дело ваше.
Он протянул руку и повернул выключатель. Комната залилась светом. Высокий стройный юноша, говоривший о бутылке, порывисто поднялся.
— Наше — так наше, с задором отозвался он на слова старика. Ничего, Владимир Алексеевич. Наплевать! Где наша не пропадала? Насчет пугливости у нас — «отсутствие всякого присутствия». Мы, елки-палки, за все беремся! Как это поется в нашем авио-марше:
«Мы рождены, чтобы сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки — крылья,
А вместо сердца — огненный мотор»…
Белокурый чуб сполз на лоб, и две полосы белых зубов словно озарили молодое смеющееся смелое лицо.
— Нам, Сережа, разум дал не только крылья и моторы, но и осмотрительность, усмехнувшись, медленно и спокойно, словно взвешивая и вбивая слова, ответил коренастый человек в форме командира Красного Флота. Вот — штормовой ты человечина! И когда это ты, футбольная твоя душа, перестанешь балаганить и будешь к чему либо серьезно относиться?
— Серьезно? А зачем она нужна в жизни, серьезность то твоя, ты, чудище морское? В нашей советской жизни от серьезности, браток, только вешаются. А со смехом — любое дело легче дается. И знаешь что: чем серьезнее дело — тем больше туда нужно смеху вложнть. Ей Богу! Так сказать: колесеки смехом смазать, чтобы легче вертелись. Моряк махнул рукой.
— Ну, тебя не переспоришь… А это дело нужно все-таки всерьез обмозговать. Как по твоему, Ирма?
Девушка подошла к столу. Ее тонкие нервные пальцы уверенно и цепко вытащили из кучки пепла маленький кусок несгоревшей бумаги. Вспыхнувшая спичка дала матово-огненный отблеск на сгибе золотистых кос, уложенных диадемой на маленькой головке. Тонкое строгое лицо усмехнулось в ответ на вопрос моряка. Когда догорел последний кусочек письма, она подняла голову.
— «Об-моз-гу-ем»?.. Ох, Коля! — Скоро ты совсем забудешь русский язык между своими «военморами». «Обмозгуем»… Неужели так трудно то же выразить на чистом русском языке?
— Ладно, ладно, дорогуша. Не придирайся. Наш язык — молодой, растущий, богатый. Почему бы и не перенять яркие слова нашего, так сказать, пролетариата? Конечно, Тургенев, вероятно, так не выражался, но, ей Богу же — ему же и хуже…
— Ну, будя вам ругаться, вмешался веселый юноша. А то еще подеретесь на старости лет…
— Да это мы так — «любя», ответил моряк, и его спокойное лицо с крупно высеченными чертами внезапно осветилось ласковой улыбкой. Девушка ответила ему взглядом, в котором мелькнула застенчивая нежность, так плохо гармонировавшая с ее уверенным и решительным видом.
Старик с седыми усами перевел свои глаза с одного лица на другое и усмехнулся своей доброй улыбкой. Как знал он эти лица, еще недавно зеленую поросль школьных рядов, а теперь вот уже бойцов в шеренге жизни! Как любил он замечать в своей работе с молодежью первые морщинки раздумья чистых лбов, первые эмоции, первые впечатления от мира, полного яркости, чудес и очарования в золотом возрасте полудетства… И теперь вот — эти трое, его старые ученики, взрослые для постороннего взгляда — для него все те же милые дети, тепло его старого сердца…
Да — это смена… Смена в бою жизни. Да и пора. Он так устал, этот старик, когда то боевой полковник, а теперь мирный преподаватель одной из московских школ. Надо передать молодым плечам часть тяжести жизни…
— И правильно, товарищи. Давайте обмозговывать, решительно сказал белокурый юноша. А ты, Ирма, зря взъелась. Николка правильно сказал неправильным русским языком насчет обмозговыванья. Ей же Богу — хорошее слово: целую фразу заменяет! «Обдумаем» — это серо, как то по профессорски. «Провентилируем» — слишком по комсомольски. А тут — «об-моз-гу-ем». Звучно то как… И сразу же чем то умным пахнет… Хотя я, по совести говоря, думать не люблю. Мне бы действовать побольше… Но для такого случая и я своей мозговой извилиной шевельну. Так уж и быть… А… только: что тут обмозговывать? Дело ясно, как самовар. Надо за него взяться и провернуть на ять. Вот и все!
Моряк усмехнулся.
— И как это у нашего Офсайда[5] Иваныча все просто делается: словно гол вбить.
— Ах ты, дубина морская, кашалот адмиральский! — взорвался юноша. Просто, как гол вбить? Попробовал бы сам, тяжелопер влюбленный!.. Ты думаешь — это так легко?.. Это, брат, как у одного снайпера[6] спросили, трудно ли хорошо стрелять. А он — «пустяки, говорит. Нужно только взять ровную мушку, правильно подвести к мишени и плавно спустить курок»… А попробуй сам: ссади зайца на 300 метров… Или на полном ходу между беками всади мяч в угол ворот… Легко? Вот, чорт! Меня от негодования даже в пот вдарило… Моряк опять махнул рукой.
— Ладно, Офсайд Иваныч. Я ведь тебя давно знаю: тебя не переспоришь. Ты, брат, из породы людей, которые сперва действуют, а потом уже думают… А тут нужно как раз наоборот: по нормальному. Дело то ведь не только серьезное, а даже загадочное. Вы как, Владимир Алексеевич, это письмо получили?