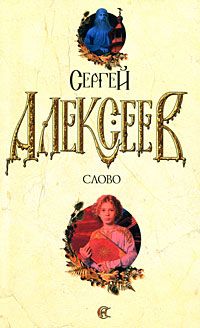Неподалеку от здания семинарии Никита остановился передохнуть, оглядел сводчатые, пыльные окна, высокое, на три стороны, крыльцо с парапетом. «Что же это у них семинарию до сих пор не закрыли? — вспомнил он ответ жиляковской домочадки. — Или по старинке еще зовут…» Однако, приблизившись, он увидел кумачовый транспарант над входом: «Первая пролетарская школа для рабоче-крестьянских детей». Кумач уже выцвел, пообтрепался, как солдатская гимнастерка, но от этого выглядел только внушительнее и прочнее.
Гудошников простучал протезом по лестнице на второй этаж, отыскал учительскую. В школе шли уроки, и тишина в коридорах, живое дыхание в классах сразу напомнили университет. Никита тут же мысленно поспорил с Мухановым. Вот они, пролетарские дети, сидят за партами, учатся, растут, не успеешь оглянуться, как пойдут дальше, в университет. Кругом разруха, голод, банды, а будущее уже вот оно, пока еще в лаптях, косоворотках, но дай срок! Дай срок, и все это отшелушится, отлетит, и настанет час, когда этим детям нужны будут не только кусок хлеба и крыша над головой. Обогревшись и насытившись, они захотят познать себя — откуда они, что они значат в этом мире? Так будет, в конце концов, это диалектика. И вот тогда-то они и спросят… В учительской оказалась лишь какая-то девушка, то ли ученица, то ли молоденькая курсистка, присланная поднимать народное образование. Длинное платье с глухим воротником, тоненькая шея и русая коса до пояса.
— Мне нужен Жиляков, — поздоровавшись, сказал Никита.
— Андрей Павлович? — отчего-то удивилась девушка и скользнула взглядом по френчу с орденом. — Я не знаю… Возможно, он у себя…
— Где? На уроке?
— Как вам объяснить, — замялась она. — Это в другом крыле, там комнатка такая есть… Каморка…
И вдруг, спохватившись, сбивчиво начала объяснять, что Жиляков больше не работает в школе, что его уволили еще в прошлом году, как и было предписано, а уроки словесности ведет теперь она. Но Жиляков до сих пор ходит в школу и запретить ему невозможно, потому что приказано было только не допускать его к ученикам, а в остальном указаний не поступало. Вот он каждый день и появляется в школе, ходит по коридорам или сидит в каморке…
Гудошникова опять принимали за уполномоченного.
— Мне нужно поговорить с ним, — пояснил Никита. — По важному делу. Я из Питера.
— Я провожу! — с готовностью вызвалась учительница. — А вы… не по жалобе приехали? Будто Андрей Павлович жалобу писал…
— Какая жалоба? — не понял Гудошников. — Я из университета.
— А, тогда вы не знаете! — чему-то обрадовалась она. — Ну, идите за мной, я провожу.
Они прошли по коридору, затем черной лестницей спустились на первый этаж и оказались в тупичке — полутемном, пыльном, с битой мебелью на полу и с выпирающей, как человеческие ребра, штукатурной дранкой по стенам.
— Тут осторожно, — предупредила учительница. — Не запнитесь.
Никиту покоробил ее участливый тон: опять ему напоминали, что он — инвалид. Однако он смолчал и, освобождая проход, с силой двинул колченогую парту. Груда ломаной мебели зашевелилась, загрохотала, взметнулся столб пыли. Проводница Никиты остановилась возле низкой двери в конце тупика и несмело постучала.
— Андрей Павлович, к вам пришли. — За дверью никто не отозвался. Учительница пропустила Гудошникова вперед. — Он здесь, заходите.
Никита потянул дверь на себя и оказался в маленькой комнатке со скошенным потолком. Похоже, здесь когда-то держали ведра, тряпки, паркетные щетки, но теперь вместо этого инвентаря в каморке у окна стоял облупившийся ампирный стол и несколько тщедушных стульев. На одном из них, повернувшись к свету, сидел высокий, сухопарый человек лет шестидесяти, одетый в черный учительский мундир и белую манишку.
— Чем обязан? — мельком глянув на вошедшего, бросил Жиляков.
Никита присел на стул.
— От Артура Карловича привет принес, — изучая Жилякова, сказал он. — От Крона Артура Карловича, вашего знакомого.
— Я вас не понимаю, — сухо проронил Жиляков и покосился на протез. — Кто вы?
— Из Петрограда, моя фамилия Гудошников, — сдержанно представился Никита. — Учусь и работаю на кафедре, где когда-то был Крон…
— Почему — был? — встрепенулся Жиляков и замер.
— Потому что был, — отрезал Никита. — Был и нету.
— Догадываюсь… — пробормотал бывший учитель с неожиданной хрипотцой в голосе. — Что вам угодно, молодой человек?
— Кое-что угодно… Например, что вы знаете о Христолюбове? Николае Николаевиче?
Жиляков еще раз оглядел гостя — френч с орденом, распахнутую шинель, — видимо, что-то сопоставлял и не мог сопоставить.
— Такого человека я не знаю, не помню.
«Сволочь, — подумал Никита, ощутив бессилие перед неприступностью Жилякова. — Сейчас вспомнишь, сволочь!»
Он вынул из кармана френча письмо Жилякова к Крону, неторопливо развернул.
— Вот ваше письмо к профессору.
Перед тем как пойти на розыски бывшего учителя семинарии, Гудошников много раз проиграл в уме встречу с ним, продумал, как себя вести, что говорить. Письмо он решил не показывать без крайней надобности, но держать при себе и, лишь когда настанет необходимость, предъявить его как самый веский и бесспорный аргумент. Теперь же, вынув конверт, вдруг понял, что поспешил, что разговор по плану не получился, и как пойдет дело дальше — неизвестно. С человеком, видевшим рукопись, а может, теперь и с ее владельцем, нужно было вести себя иначе. Больше дипломатии и никакой горячки! Ведь сколько раз твердил это себе. Жиляков свое письмо узнал, но, и уличенный, не смутился, наоборот, стал прямее и горже.
— Николай Николаевич умер в девятнадцатом.
— Это я знаю. Где его вещи?
— Я не был у него душеприказчиком.
«Знает! — отметил Гудошников. — Еще как знает!»
— Где языческая рукопись?
— Не ведаю. — Лицо Жилякова стало спокойным, он положил руки на колени. — Зачем вам она, молодой человек? Зачем вам, революционному солдату, понадобилась языческая рукопись?
— Она нужна республике. России.
— России? — деланно удивился Жиляков и встал, чуть не касаясь потолка головой. — России сейчас нужен хлеб, паровозы и… патроны. Россия сейчас без хлеба и патронов как вы без… — Он взглянул на протез Гудошникова, посмотрел в окно. — Россия после переворота мечтает о новой, пролетарской культуре, — хладнокровно продолжал Жиляков. — Старье на слом, на свалку, на помойку! Все заново, как от рождения Христа. До семнадцатого года Россия жила во мраке, творила буржуазную культуру, и не было в ней Рублева, Тредиаковского. И протопопа Аввакума не было, и Пушкина, и Рахманинова. Тем более, молодой человек, не было языческой рукописи, как самого старца Дивея. Это все проклятое прошлое, тяжкое наследие капитализма.