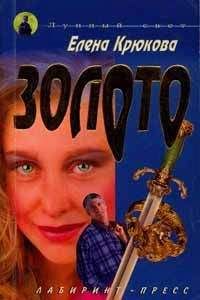– Зажечь нечем…
Он, улыбаясь, пошарил воруг, отыскал кремень. Ударил камнем о камень. Высек искру. Умело раздул ее. Через минуту костер на берегу уже пылал. Она с восхищеньем глядела на возлюбленного. Его суровое лицо в свете костра приобрело величавые, царственные черты. Она встала над костром, свела руки над головой и стала совсем похожа на древнюю амфору.
– Вино в тебе, – сказал он глухим голосом, – ты знаешь, вино в тебе, и я – пьяный…
– Я тоже, – шепнула она. Снова встала на цыпочки. Покачнулась. Изогнулась вся. И, танцуя, двигаясь так, как подсказывало ей чувство, ничего не зная, а только лишь чувствуя и делая то, что приказывали ей толчки охмелевшего сердца, она пошла, пошла, пошла по песку, по песчаному кругу, сведя руки над головой и покачивая бедрами, зная, что вот он глядит сейчас на нее, и все ее тело под его пристальным взглядом расцветает и поет, что так никогда не было у нее в жизни – и, может, больше не будет уже никогда.
– Я пьяна тобой, я тобой пьяна… Я твоя любовь, я твоя жена… Я люблю тебя, только я одна, и глядит на нас лишь одна Луна…
Она пела то, что немедленно, сейчас приходило ей в голову. Она сочиняла на ходу. Она никогда не пела такой песни, и слова приходили к ней сами, и мелодия билась в ней, ища выхода, и она давала ей выход – голос ее летел над морем, вился и страдал, молился и радовался, и это была только ее песня, больше ничья, и она дарила ее ему; она дарила ему всю себя, здесь, у моря, перед разожженным им костром, и в сполохах огня она видела его лицо, и оно улыбалось.
Пламя вспархивало, как золотая птица. Она мчалась вокруг костра, кружилась. Ее ноги вздергивались, руки летели; казалось, она взлетит в танце. Внезапно застывала, будто видела то, чего видеть нельзя. Зеленые глаза на смуглом разрумянившемся лице горели, как две просвеченные насквозь солнцем виноградины. Он не мог дольше глядеть на ее красоту. Он вскочил, бросился к ней. Она обвила его руками. Ее руки захлестнули его, как языки огня.
Они, задыхаясь, целовались у костра так, будто потеряли друг друга в жизни – и нашлись, будто умирали – и вот воскресли. Он чувствовал, как она вся дрожала и горела. Она была вся в поту, в песчинках, в потеках морской соли. Целуя его, она закрыла глаза. Он словно обезумел. Он весь превратился в пламя. Он не мог больше ждать. Он схватил ее на руки – и так понес ее в гору, вверх, на обрыв; и, взлетев с нею на руках одним махом на обрыв, он поглядел с ней вместе с обрыва вдаль, на море, на ночное небо, полное звезд, как жемчужин, как золотого снега, – и она держалась рукой за его шею, и он чувствовал, как любимое тело тянет тяжестью вниз, к земле, а глаза зовут вверх, к звездам.
И он подумал о том, что смерть совсем не так страшна. Она – счастье, если умираешь вместе с любовью и в любви.
Он пронес ее на руках в палатку. Луна в последний раз улыбнулась им с небес. Они остались одни, вдвоем, в кромешной тьме.
– Погоди, сейчас я зажгу свечку…
Он наощупь разыскал витую толстую свечку, спички, зажег. Неверное пламя озарило их обоих, голых, забывших на берегу все свои тряпки, полотенца. Он пробормотал:
– Ничего не бойся, ничего, ложись… а я сяду рядом, я буду просто на тебя глядеть…
Их обоих колыхала неистовая дрожь. Она легла. Он глядел на нее, она глядела на него.
Они глядели друг на друга, и их глаза входили друг в друга, они целовали друг друга глазами, они умирали от любви.
Он упал рядом с ней на матрац, застеленный развернутым спальным мешком.
– Погоди…
– Как ты хочешь, любовь моя!.. я могу не коснуться тебя…
Они прикоснулись друг к другу телами, руками. Обожглись. Они оба горели так, что все тряпицы в палатке и брезент могли воспламениться. Она нежно выдохнула ему в лицо:
– Давай… посмотрим на меч… он же здесь, у тебя… я знаю…
Он крепко обнял ее. Из ее груди вырвался громкий стон. Он шепнул:
– Сейчас… я достану его… он там, в моем кейсе…
Они, голые, лоснящиеся в свете свечи, смуглые, стройные, глядели, как заколдованные, на меч, вынутый им из тайника. Она погладила пальцами выпуклый рельеф золотых ножен.
– Обнажи… обнажи его!..
Он выдернул его из ножен одним махом. И она поднесла руки к щекам, зажмурилась и чуть не закричала от блеска, великолепья, ужаса и счастья.
Меч, пролежавший в земле тысячи лет, выдернутый из ножен, был прекрасен, как вчера выкованный – блестел чистым, грозным металлом, тяжелый, четырехгранный, и такой шлифовки ни у греков, ни у воинственных ахейцев, ни у хеттов он тоже не упомнил. Меч торжествовал, оставшись наедине с двумя любящими, и он говорил им: я смерть, а вы – любовь, ну так давайте быть вместе всегда, до скончанья века. Любовь и смерть всегда рядом, вы разве об этом не знали, вы, несмышленые человечьи созданья. Вы сами сделали меня, да; но я – бич Божий, я меч, и ангел, изгоняющий людей из Рая, держал меня в руках; и мною наказывали и воздавали; и мною повелевали и прощали. А те, кто не хотел прежде времени принадлежать друг другу, кто молился друг на друга, как на святыню, клали меня между собой, ложась спать, – вы разве не знали об этом?..
Он побледнел. Она прошептала:
– Давай ляжем… и положим его между собой…
Он, заглядывая ей в глаза, положил руку ей на развилку ног, где вилось нежное золотое руно, и его ласкающий палец проник туда, внутрь женщины, где полдневный жар сливается с полночным; где тьма обращается в свет, чтобы там, во тьме, зачался и расцвел, как цветок, ребенок. Она выгнулась и застонала под его лаской, и в ее стоне он услышал боль.
– Да, так делали они, давно, тогда… те любящие… древние… Я понял… Ты – девушка… ты боишься, и тебе больно… мы тоже так поступим… он охранит нас… как ты хочешь… как хочешь…
Они, дрожа, легли рядом и положили обнаженный меч между своих горячих тел. Закрыли глаза. Он поднялся, укрыл ее простынкой. Она сбросила простыню. Они снова легли, взявшись за руки; их дыханье сначала выровнялось, а потом снова стало учащаться, и вот они уже больше не смогли дышать. Они стали задыхаться. Ее колено легло на холод меча. Она отдернула ногу.
– Как лед… я обожглась об это чертово железо… я больше не могу, слышишь…
– А я?.. иди, иди… иди, моя любовь, не бойся…
Они обняли друг друга. Он, взяв ее в объятья, перекатил ее через холодный меч на себя. Раздвинул ей ноги руками. Нежно поцеловал в грудь. Она сама, не помня себя, не осознавая, что делает, ослепнув от ужаса и чуда, сидя верхом на нем, как та девушка – на льве на рукояти меча, подставила ему вконец раскрывшуюся влажную раковину, и его живой меч проник туда, где сгущалась тайная тьма, пробив живую тонкую преграду, ударил нежно и сильно, и она сама села на него, чуть не потеряв сознанье от ослепительного света, ужаса, боли и счастья; и кровь хлынула из нее, из разверстой женской раковины, на его золотой загорелый живот, помечая собою, своей текучей красною болью, освящая и скрепляя любовь, всегда начинающуюся, не кончающуюся никогда.