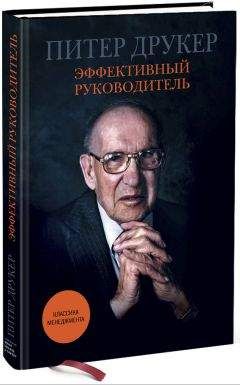— Айда, Федя, Федя, — вырвалось у него, — съел медведя!
И свет Наташа, успевшая нарумяниться и подвести свои пухлые губки, радостно всплеснула ручками и повторила.
— Ну и Федя! Федя — съел медведя!..
Исаков погрозил ей пальцем и сказал притворно строго.
— Егоза! Еще и повенчаться не успела, а уже над мужем издеваешься!.. Я тебе, Федор, добрую плетку подарю… Стегать надо тебе жену… Учить уму-разуму, чтобы мужа почитала… Повесишь ее над своею постелью… Так-то, свет Наташенька!
Марья Тимофеевна поспешила на выручку дочери, сквозь румяна полымем вспыхнувшей.
— Сказывай дальше, Федя… Полно вам… Ярославич глупое слово сказал, а она, не подумав, повторила.
Но только Федя стал продолжать свой рассказ, как жилец доложил о приезде отца Георгия.
Засуетились приготовлять все для молебна…
— Только все это так, — озабоченно говорил Исаков, — а все надо подождать, как примет Ермаково посольство царь… Грозен он ныне… Не было бы вместо радости — беды!
Когда входили в чистую горницу, где на накрытом белыми полотенцами столе были положены иконы и стоял сосуд со святой водой, мужчины становились вправо, женщины — влево. Собралась вся дворня и жильцы. Наташа улучила время, когда все затолпились в дверях и, схватив Федю повыше локтя, шепнула в самое ухо, жарко дыша:
— Ай да Федя! Съел медведя!..
Был тот ее смешок Феде как самая милая ласка!
Москва и царь Иван Васильевич приняли посольство Ермака с радостью. Царь и народ точно ожили. Так давно не было никаких хороших вестей.
При царском дворе бояре с восторгом говорили:
— Господь послал Руси новое царство.
Повелено было по всем церквам служить молебны и трое суток звонить в колокола пасхальным звоном. Так делали, когда была взята Казань и отошла к Руси Астрахань — в дни юности царя. Забылись неудачи шведской войны.
Ивану Кольцо и его посольству сейчас был назначен торжественный прием во дворце.
28-го февраля 1582 года, в Васильев день, царь Иван Васильевич слушал обедню в Успенском соборе.
После обедни в большой дворцовой палате был назначен прием казакам.
Иван Кольцо, Федор Чашник, Слепой и шесть станичников во время обедни были доставлены во дворец и разложили и расставили против царского места сибирские дары.
Царский стремянный и дьяк посольского приказа указывали Кольцо что, куда ставить и учили, что говорить царю. Кольцо слушал их с тонкой усмешкой на темном от морозных ветров и зимнего солнца лице. Он был чисто, но небогато одет в синей однорядке и скромном стальном «юшмане»[50], едва покрывавшем бока и грудь казачьего есаула. На юшмане были следы невытравимой ржавчины, и он был помят сабельными ударами. Старый матерчатый стеганный на вате тегиляй на Слепых был заплатан, а внизу пожжен и порван. Синий кафтанчик Феди был тщательно подштопан Марьей Тимофеевной и Наташей.
Станичники блистали только великолепным оружием. На Кольцо была драгоценная Маметкулова сабля, у всех казаков сабли в золоте и серебре.
Таков был приказ Ермака:
— Явиться царю в том, в чем бились с татарами.
Палата наполнялась.
Юноша царевич Федор Иоаннович запросто подошел к Кольцо и остановился, восторженно разглядывая казачьего есаула.
— Сибирь, сказывают, завоевали станичники, — сказал он, слегка заикаясь.
У царевича пробивалась по щекам молодая русая бородка. Жидкие волосы упадали до плеч. Он был от природы застенчив и скромен.
— Приехали, царевич, поклониться тем царством великому государю, — сказал, понижая голос Кольцо.
Ему все казалось, что в этих красиво убранных палатах его голос звучит слишком громко. Дубовый пол, хитрым рисунком в цветные шашки уложенный, был скользче льда на Иртыше. Старый станичник не знал, как называть царя, а советы дьяков посольского приказа не укладывались в его голове, занятой обдумыванием, что и как сказать царю, как выгородить Ермака и казаков.
— На дворе, атаман, — ласково сказал царевич, — глядел я коней сибирских. Сейчас мохнаты, ровно звери дикие, а весной отлиняют, я чаю, весьма красовиты будут. Гурмыз, Тайбун и Бимлей — понравились мне. Жалко батюшка теперь почти не ездит и царской потехой, соколиной охотой, перестал заниматься, а то бы порадовали его кони эти. Я думаю: резвы.
— Белый Мунгал самый резвый, — сказал Кольцо. — А что, царевич, разве недужен стал царь?
Царевич не успел ответить. По палате застучал боярин посохом. Шорохом пронеслось: «царь идет», — и полная тишина стала в палате.
Мутный свет солнечных лучей пробивался сквозь радугой игравшие слюдяные пластины и ложился хитрым бледным узором на сильно навощенный дубовый пол. От курильниц сладко пахло ладаном и розовой водою. Их перебивал терпкий запах мехов, разложенных по столам. От этого запаха и от волнения у Феди кружилась голова.
* * *
По широкому проходу раздались мерные шаги нескольких человек, и сквозь стук подкованных каблуков по полу слышна была чья то неровная шаркающая походка. Федя именно ее-то и услышал и понял, что то шел царь.
Федя стоял, вытянувшись, напряженно глядя на широко распахнутые двери. В них показались юноши, боярские дети, рынды в длинных белых кафтанах, расшитых золотом, в высоких шапках. Они шли по два в ряд и несли на плечах топоры.
За ними «в большом наряде»[51], поддерживаемый боярами под локти, шел царь.
Царю Иоанну IV Васильевичу шел всего 54-й год, но тяжелая болезнь, непосильное бремя царствования, вечная боязнь боярской измены, а последние годы, неудачные войны с Польшей, Ливонией и Швецией, потери земель, большою кровью и трудами приобретенных, сокрушили его тело, и он смотрел стариком. Золотая круглая шапка с алмазным крестом на ней, обшитая по краю соболем, давила изможденное в морщинах лицо. На плечах лежали тяжелые золотые «бармы» с иконами, и на них с шеи спускался большой четырехконечный крест с изображением Распятого Христа. Бледное лицо было изрыто глубокими морщинами. Длинный с горбиной тонкий нос прорезывал его. Седая бородка была неровна и жидка. И только в больших серых, бледных глазах еще сильно и ненасытно горел огонь жизни.
Тяжело опираясь на посох, царь поднялся на ступени царского места и уселся на нем, оправляя свой наряд. Он молча смотрел на казаков, и в его глазах светились восторг и недоверие.
Иван Кольцо и казаки с Федей, отбившее положенные по уставу поклоны, стояли против царя. Иван Кольцо, не мигая смотрел смелыми карими глазами в глаза царю.