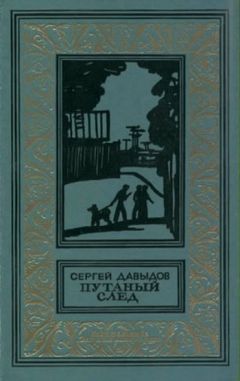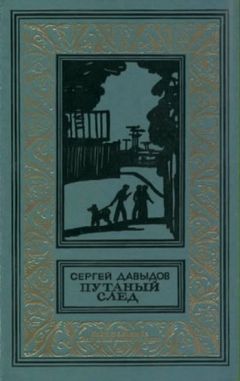— Что ты хочешь делать, Борька?
Он не ответил, а побежал туда, где была голова Фрица.
Я спрыгнул на снег и успел схватить Борьку за плечо.
— Что ты делаешь?
Борька оттолкнул меня, я полетел на землю, но, вскочив, снова бросился к нему. На этот раз мы упали оба: я вниз, Борька на меня.
— Пойми, — лихорадочно тараторил мне прямо в ухо Борька. — Пойми, сейчас я его к черту, а скажем, что майор, никто и разбираться за эту тварь не станет. Еще Лысюку нагорит за то, что послал.
Он стиснул меня так, что слабость моментально охватила мое тело.
— Пойми, — уже почему-то шепотом продолжал он. — Сейчас сядем в машину и прямо в столовую, прямо в столовую.
Мокрый рукав его шинели елозил меня по лицу. Мне нечем было дышать, я старался выбраться из-под него, а он вырывал у меня ремень карабина.
Сильная боль пронизала мои виски, пальцы разжались сами, я начал хватать воздух ртом.
— Видишь, припадок, — вскочил Борька, подхватив карабин. — Разве я могу тебя так оставить! Сейчас всё сделаю и донесу до шоссе.
«Правильно, — вдруг подумал я. — Какого черта разыгрывать тут комедию. Каждый час гибнет столько людей, а я трясусь над этой паршивой изъеденной шкурой — Фрицем. Разве я сам не застрелил пегую лошадь, увязавшуюся за нами на минное поле. Там хоть наша лошадь была, а это немецкая шкура, так чего я упрямлюсь?»
Так я рассуждал, не поднимаясь с земли и напрягшимся слухом ожидая выстрела. Слева летели по небу багровые отсветы. Сильное жадное пламя.
«Ерунда, — продолжал рассуждать я, — давно надо было его застрелить, гулял бы сейчас с Лидочкой…»
Наконец раздался щелчок предохранителя.
— Борька, — неожиданно для себя спокойно проговорил я. — Я скажу в части, что Фрица пристрелил ты.
…Я сидел на санях и пытался свернуть цигарку. Никак было не успокоить дрожь в пальцах. Машины все так же неутомимо пролетали по шоссе. В ушах остался долгий скрип тормозов — останавливалась машина, чтобы подобрать Борьку. Фриц стоял смирно, наверное, дремал. От него пахло потом и еще чем-то больным.
Цигарку наконец удалось свернуть, я стал шарить зажигалку, и в это время горячая тяжелая горошина ударила меня по щеке. Я потрогал её пальцами. Неужели слеза?
Длинные алые всполохи неслись надо мной.
Докурив, я слез с саней и принялся взваливать сено на сани и уминать его уверенно и не спеша.
Было это во время войны в небольшом городке Горьковской области, куда из осажденного Ленинграда переехало военное училище.
В одном доме квартировали музвзвод и хозвзвод. Дом был бревенчатым, в косых широких щелях, забитых пылью и затянутых паутинками. Взводы поселили сюда в спешке в суматошные дни эвакуации и, не успев, конечно, подумать, расположили музыкантов внизу, а хозяйственникам отдали второй этаж.
Музвзвод состоял из мальчишек-воспитанников и нескольких сверхсрочников, бывших когда-то также воспитанниками училища.
Сверхсрочники были хорошими музыкантами, их взяли в музвзвод еще до войны за способности и любовь к музыке.
Теперь же такого строгого отбора не было. Набрали тех, у кого отцы на фронте, и далеко не все из новых воспитанников обладали даже самым необходимым — музыкальным слухом.
И если теперь оркестр без ошибок исполнял на разводе «Строевой марш», то была в этом заслуга Пал Палыча — старшины музвзвода — это он бесчисленным количеством репетиций и сыгровок добился-таки согласованного звучания оркестра.
Почти все обитатели второго этажа годились воспитанникам в дедушки. Народ нестроевой — у каждого своя хворь, они справляли хозяйственные работы по училищу. Трудились на кухне, ездили на лошадях, ремонтировали обувь, заготавливали дрова, доставляли продукты.
Работали они помногу, зачастую ночью, и потом, лежа на железных двухэтажных койках, тщетно пытались уснуть под бодрые звуки «Колонного марша» и кощунственно ругались под нежный вальс «Осенний сон».
Но больше всего им досаждало, когда воспитанники занимались индивидуальными репетициями.
— Буп! — раздавался снизу слоновый удар баса. — Бам!
— Та-та, — тоненько заколачивали гвозди альты. — Та-та, та-та!
— Ру-у-ру, — широко разливаясь, заставляли дребезжать стекла баритон и тенор.
Выручало хозяйственников… мытье полов. Мальчишки музыканты исподтишка курили, считая себя настоящими солдатами. Пал Палыч, ярый враг курильщиков, застигнув их на месте преступления, тотчас отменял занятия, и начиналось мытье полов. Старички хозяйственники с явной выгодой для себя помогали Пал Палычу выслеживать курильщиков. Во-первых, на время мытья наступала тишина, а во-вторых, когда проштрафившихся было много, Пал Палыч посылал их наверх драить полы хозвзвода.
— Внучок, — кричали хозяйственники, блаженно лежа на кроватях. — Внучок, ты ужо под койку залезь, подрай и там! И сундучок отодвинь, любезный, под ним пыли набилось! Вот так, милай! Может, тебе покурить свернуть, а?
— Ну, подождите! — скрипел зубами воспитанник. — Подождите…
Кончив мыть, он бежал вниз, хватал инструмент, и целый час разъяренная труба ржала, мяукала, лаяла, долбила потолок одиночными выстрелами, распарывала пулеметной дробью.
Туго приходилось хозвзводу.
— Чтоб у вас трубы распаялись, — ворчал старшина хозвзвода. — Дудари проклятые! Дудят, дудят одно и то же. День дудят, ночь дудят… Да за это время я бы любую кобылу танго играть научил!
Пал Палыч вздыхал.
— Раньше были мальчишки, — мечтательно вспоминал он, — пять репетиций — и любая вещь готова! А теперь — глухие, совсем глухие… Эх!
— А нельзя вам на улице дудеть, а? — спросил хозяйственник. — Я бы и заборчик соорудил, вроде загона. Давай?
Так и сделали.
Первое время забор густо облепляли местные пацаны. Они галдели и мешали заниматься, но разучивание одной и той же вещи — нудная штука, и постепенно все мальчишки отклеились от забора. Хотя нет, не все. Один появлялся ежедневно. Звали его Митя.
Митина мама работала в столовой. Столовая находилась на базаре и раньше, перед войной, была весёлым и шумным местом. Теперь же в столовой наесться было нельзя, можно было только выпить чаю без хлеба. Иногда продавали суп-болтушку и картофельное пюре без масла.
Базар почти пустовал теперь, и Митина мама рано приходила домой. Дома она заваривала все тот же чай, ставила перед собой блюдечко с клюквой и молча пила и курила, курила и пила. В одной руке стакан с чаем, в другой самокрутка.
Частенько она оставалась без курева и поэтому повсюду прятала от себя щепотки махорки, закидывала на печку и на шкаф «чинарики», а в черные дни принималась разыскивать их. Цена махорки была страшная: тридцать пять рублей спичечный коробок.