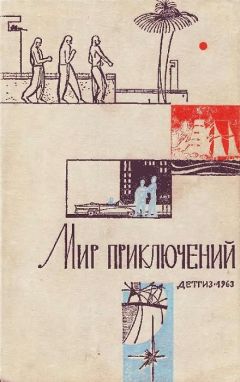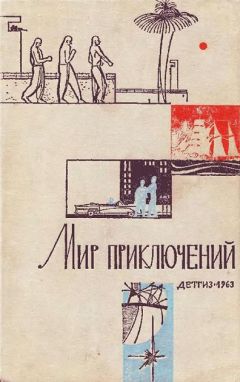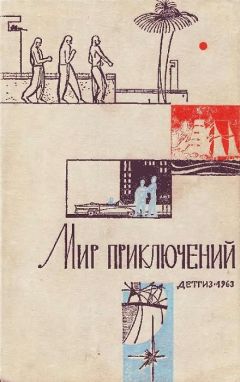И будто лопнул невидимый буксирный трос. Видение корабля рассеивается, как пар. Летучий Голландец исчез. Слышен скрежещущий удар днища о камни. И это последнее, что вы слышите в этой жизни…
Надо, пожалуй, рассказать вам еще и о письмах.
Бывают, видите ли. счастливчики, которым удается встретить Летучего Голландца и целехонькими вернуться к себе домой. Однако это случается очень редко — всего два или три раза в столетие.
Ночью, на параллельном курсе, возникает угловатый силуэт, причем так близко, что хоть выбрасывай за борт кранцы. Всех, кто стоит вахту, мгновенно пробирает озноб до костей.
Ошибиться невозможно! От черта разит серой, а от Летучего тянет холодом, как из склепа.
Простуженный голос окликает из тьмы:
“Эй, на судне! В какой порт следуете?”
Шкипер отвечает, еле ворочая языком, готовясь к смерти. Но его лишь просят принять и передать корреспонденцию. Отказать нельзя. Это закон морской вежливости.
На палубу плюхается брезентовый мешок. И сразу же угловатый силуэт отстает и пропадает во мгле.
Ну, сами понимаете, команда во время рейса бочком обходит мешок, словно бы тот набит раскаленными угольями из самой преисподней. Но там письма, только письма.
По прибытии в порт их вытаскивают из мешка, сортируют и, желая поскорее сбыть с рук, рассылают в разные города. Адреса, заметьте, написаны по старой орфографии, чернила выцвели.
Письма приходят с большим опозданием и не находят адресатов. Жены, невесты и матери моряков, обреченных за грехи своего сварливого капитана скитаться по свету, давным-давно умерли, и даже след их могил потерян.
Но письма всё приходят и приходят…
Олафсон замолчал.
Кто-то сказал из угла:
— И откуда ты выкапываешь эти подробности? Можно подумать, что сам встречался с Летучим Голландцем. А не побывал ли и впрямь у него на борту?
Это голос придиры! Не удержался-таки, поддел! На придиру зашикали. Но Нэйл в волнении подался вперед. Что ответит придире Олафсон?
— На этот раз ошибся, сынок, — спокойно сказал Олафсон. — Я не бывал на борту у Летучего Голландца… Но я частенько прикидываю, друзья, что бы сделал, если бы знал одно магическое слово. Есть, видите ли, магическое слово, которое может преодолеть силу заклятья. Я слышал это от одного шкипера — финна, а ему можно верить, потому что финны с давних времен понимают толк в морском волшебстве. Однако слова он тоже не знал. А жаль! Сказал бы мне это слово, разве бы я продолжал служить лоцманом? Нет! Вышел бы в отставку, продал дом в Киркинесе — потому что я вдовец и бездетный — и купил бы или зафрахтовал, смотря по деньгам, небольшую парусно-моторную яхту. Груз на ней был бы легкий, но самый ценный, дороже золота или пряностей, — одно-единственное магическое слово!
С этим словом я исходил бы океаны, поджидал бы на морских перекрестках, заглядывал во все протоки и заливы. На это потратил бы остаток жизни, пока не встретился бы наконец с Летучим Голландцем.
Иногда, друзья, я представляю себе эту встречу.
Где произойдет она: под тропиками или за Полярным кругом, в тесноте ли шхер или у какого-нибудь атолла на Тихом океане? Неважно. Но я произнесу магическое слово!
Оно заглушит визг и вой шторма, если будет бушевать шторм. Оно прозвучит и в безмолвии штиля, когда паруса беспомощно обвисают, а в верхушках мачт чуть слышно посвистывает ветер, идущий поверху.
В шторм либо в штиль голос мой гулко раздастся над морем!
И что же произойдет тогда?
Сила волшебного слова, согласно предсказанию, раздвинет корабль Летучего Голландца! Бимсы, стрингера, шпангоуты полетят ко всем чертям! Мачты с лохмотьями парусов плашмя упадут на воду!
Да, да! Темно-синяя бездна с клокотанием разверзнется, и корабль мертвых, как оборвавшийся якорь, стремглав уйдет под воду.
Из потревоженных недр донесется протяжный вздох или стон облегчения, а потом волнение сразу утихнет, будто за борт вылили десяток бочек с маслом.
Вот что я сделал бы, если б знал магическое слово, о котором говорил финн!..
Но ни я, ни вы, никто другой на свете пока не знаем слова, которое могло бы разрушить заклятье…
Некоторые даже считают все это враньем, как я уже говорил. Другие, однако, готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды…
Барак погрузился в сон.
Спящие походили на покойников, лежащих вповалку. Рты были разинуты, глазные впадины казались такими же черными, как рты. Лампочка под потолком горела вполнакала.
Заснул наконец и Олафсон.
Один Нэйл не спал. Закинув за голову руки, он глядел в низкий фанерный потолок — и не видел его.
Что ему дало сегодняшнее испытание? Проговорился ли Олафсон?
В интонациях, в паузах угадывалось нечто большее, чем воодушевление рассказчика. Особенно разволновался Олафсон, дойдя до магического слова.
Оно, это слово, пригодилось бы и Нэйлу в то злосчастное утро, когда старина “Камоэнс” чуть не столкнулся нос к носу с “Летучим голландцем”.
В памяти сверкнул плес Аракары. Под звездами он отсвечивал, как мокрый асфальт. Снова увидел Нэйл черную стену джунглей и услышал непонятные ритмичные звуки — был то индейский барабан или топот множества пляшущих ног?
Под приглушенный гул, доносившийся издалека, Нэйл стал уже засыпать. И вдруг рядом внятно сказали:
— Флаинг Дачмен![6]
Потом быстро забормотали:
— Нельзя, не хочу, не скажу!
Минута или две тишины. Что-то неразборчивое, вроде:
— Никель… Клеймо… Контрабандный никель…
И опять:
— Нет! Не хочу! Не могу!
Это во сне бормотал Олафсон.
Нэйл поспешил растолкать его. Уже поднялись неподалеку от них две или три взлохмаченные головы. К чему было привлекать внимание всего блока к тому, что знали только Нэйл и Олафсон?
Старый лоцман приподнялся на локте:
— Я что-нибудь говорил, Джек?
— Нет, — сказал Нэйл. — Ты только сильно стонал и скрежетал зубами во сне.
Олафсон недоверчиво проворчал что-то и, укладываясь, натянул одеяло на голову…
На следующий день Олафсон заболел, а быть может, просто надорвался.
Утром заключенных вывели на строительство укреплений — стало известно о приближении Советской Армии. Нэйл, стоя над вырытым окопом, обернулся и увидел рядом с собой Олафсона.
Тот скрючился у своей тачки, а лицо у него было испуганное, совсем белое.