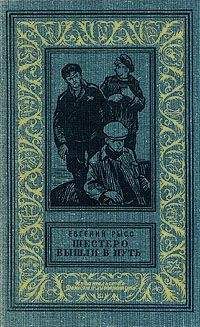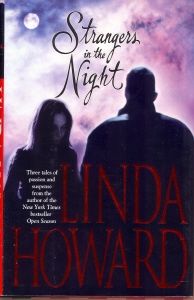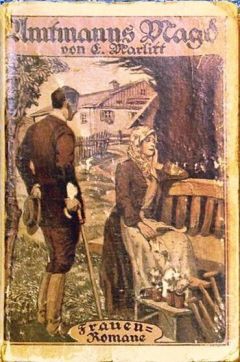Мы заставили Харбова два раза прочесть это письмо вслух.
— Не так все у нее будет хорошо, как ей кажется, — сказал Мисаилов, — но все-таки вырастет и будет хорошим человеком.
— Хоть одно-то дело полезное сделали, — мрачно проговорил Сила.
Мисаилов взял гитару и начал перебирать струны. Струны говорили на тарабарском языке, как у Силкина, только еще печальнее. Потом Вася начал одну песню и бросил, начал другую — и тоже бросил, и потом, вдруг найдя то, что хотел, сыграл длинное печальное вступление и запел со сдержанной горестью песню, которую пели в пятом году и в девятнадцатом, одну из тех замечательных песен, каких много знает русская революция.
Под тяжким разрывом гремучих гранат,
— пел Мисаилов, —
Отряд коммунаров сражался,
Под натиском белых наемных солдат
В расправу жестоку попался.
Мы подхватили. Мы часто пели эту песню и любили, и спелись, и умели ее петь, но никогда почему-то не пели ее так, как в тот раз. Совсем тихо вел мелодию Мисаилов, отчетливо произнося слова, и совсем тихо шли за голосом Мисаилова наши голоса, как будто мы рассказывали историю про себя или про любимых нами людей. До сих пор я помню, как звучали полные благородства, сдержанные слова:
Мы сами копали могилу свою,
Готова глубокая яма.
Над нею стоим мы на самом краю —
Стреляйте вернее и прямо.
Лица у нас были спокойные. Каждый будто раздумывал и вспоминал. Так эту горестную песню и нужно петь.
А вы что стоите, сомкнувши ряды,
К убийству готовые братья?
И пусть мы погибнем от вашей руки,
Но мы не пошлем вам проклятья.
Такие слова могла сказать только русская революция. Это не прощение убийц. Ничего христианского нет в этом тексте. Это великое понимание, которого не достигла ни одна из революций, происходивших прежде.
И с какой осмысленною печалью спел этот куплет Мисаилов! Спел и замолчал и отложил гитару. Замолчали и мы. Песня оборвалась, не дойдя до конца.
— Да, — сказал Мисаилов, — вот так...
И вдруг заговорил Силкин, заговорил страстно, как будто разговор шел давно и все знали, о чем речь:
— У нас даже говорить запрещается об этом. Масса слов сразу находится: нытье, интеллигентская истерика, то, се, а я все равно скажу. И можешь, Харбов, на какое угодно бюро это ставить. Ничего мы не делаем. В прошлом, понимаешь, подполье, революция, гражданская война, а мы что? Песни петь — одно развлечение. Скорее до социализма время пройдет.
— Правильно, — поддержал Тикачев.
— Конечно, правильно! — Силкин провел рукой по волосам. — Вот собралось шестеро ребят. Знаешь, что мы вшестером можем сделать? Мир перевернуть! А мы...
— Повышаем культурный уровень, — сказал с горестной иронией Саша Девятин.
— Вот-вот! — подхватил Силкин. — Всего и делов. И ты мне интеллигентское нытье не пришивай! У меня в роду ни одного интеллигента нет. Батя мой читать и то не научился. Как мы живем? Уж мещанин и то осмысленнее живет — все-таки домик, понимаешь, построит, кабанчика вырастит. У него цель такая, он этой цели и держится. А у нас, понимаешь, цель — мир переделать, а пока что мы... членские взносы платим.
— Так что ж ты хочешь, — спросил Харбов, — чтоб через год дворцы из хрусталя выросли? Чтобы наши леса в сады превратились?
— Не в этом дело! — заволновался Сема. — Пока мы тут спорим, будут при социализме блохи или не будет блох, Прохватаев, понимаешь, на социалистических лошадях к Катайкову ездит пьянствовать! Раньше пристав ездил, а теперь Прохватаев. По-моему, один черт. А мы ерундой занимаемся.
Харбов возмутился.
— Ну это, знаешь, Сила... — сказал он, не находя слов. — Это знаешь что такое? Председателя горсовета с приставом сравнивать! Ты думай, что говоришь.
— А я не хочу думать! — заорал Силкин. Его всего даже трясло, он всегда впадал в истерику, когда речь заходила о Прохватаеве. — Он, понимаешь, мерзавец, со мной не здоровается! Я для него тля, букашка, а он генерал. Так я тебе другое скажу: мне лучше пристава подавай. Я с ним бороться буду, революцию устрою.
— При капитализме сволочь должна быть и есть, а в Советском Союзе я ее терпеть не желаю.
— Ладно, — сказал Девятин, — успокойся, Сила. Не в Прохватаеве дело. А то, что зря время проходит, — это правда. Другие гражданскую войну воевали, революцию делали.
— Катайков зачем? — сказал очень спокойно Тикачев. — Ну вот был в Пудоже Базегский, миллионер. Ладно. Сделали революцию. Люди жизнь отдавали, добились своего. Победили. Нет Базегского. Так Катайков есть! И все чин по чину: беднота пропадает, в долгах запуталась, он над ними жирует, холуи вокруг него« Вместо пристава — Прохватаев, вместо Базегского — Катайков. И чуть кто слово скажет — сразу на него: бузотер! Ну я вот не бузотер. Ты меня знаешь. Так вот я спрашиваю: почему это?
— Политики ты не понимаешь! — крикнул Харбов.
— Верно, не понимаю. — Тикачев говорил совсем тихо. — Да революцию-то не политики делали, а рабочие. Так вот я, рабочий, тебя спрашиваю: как быть? Команды ждать? Хорошо. Жду. Да когда ж она будет, эта команда? Думаешь, я один так считаю? Спроси кого хочешь. Ребят спроси. Вот пусть Вася скажет, правду я говорю или нет.
Мисаилов молчал. Он как оборвал песню, так и не сказал больше ни слова. Он пробовал струны гитары, наклонял ухо, прислушивался, подкручивал колки и опять слушал то одну струну, то другую, как будто они ему говорили на ухо очень большие секреты. Вот он подкрутил один колок, и тонким голосом заговорила самая высокая струна, и он наклонил к ней ухо и пальцем трогал ее, и она говорила, говорила, без конца повторяла одно и то же, что-то наговаривала Мисаилову такое грустное, что слушать было нельзя. И вдруг Мисаилов пальцем прижал струну, и она замолчала на полуслове. Он смотрел на дверь. Повернулись и мы все. В дверях стоял Моденов, маленький, сухонький; несмотря на лето, в теплой шапке, в глубоких ботах.
— Молодежь спорит? — сказал он. — Дело хорошее. А я проходил мимо, решил поглядеть, чем мои помощники занимаются.
Мы все вскочили, стали наперебой предлагать ему сесть, выпить чаю.
— Нет, — сказал старик, — чаю я не хочу, а посидеть, если не возражаете, посижу минутку. Не знаю, как у вас, а у меня бывают тоскливые вечера. Живешь, возишься, с удовольствием даже живешь и вдруг взглянешь как-нибудь на закат — на меня закаты особенно действуют — и такая тоска! У вас небось этого не бывает, вы молодые.
— Нет, — спокойно сказал Мисаилов, — у нас никогда не бывает. Мы даже не знаем, что такое тоска.
— Вы правы, — согласился старик. — Я сказал глупость. Так о чем же вы спорите, молодые пудожане?