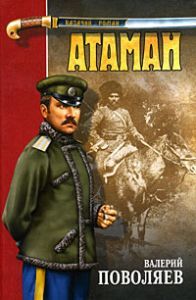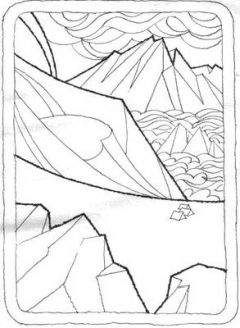нее. По ввалившемуся сморщенному глазу ползала большая, отогревшаяся на солнце муха.
Было неприятно и больно смотреть на это, словно муха своим ползаньем уничтожала живую ткань, плоть. От дельфина исходил едкий запах, и Стругов понял, что он лежит здесь уже несколько дней и погиб еще до майстры. Это успокоило майора. Взглянув на изящное, легкое тело, Стругов двинулся дальше, ежеминутно останавливаясь, нагибаясь, подбирая ошмотья земли, водоросли, разглядывая их.
Потом Стругову попалась суковатая палка, отороченная прелой, превратившейся в лохмотья кожурой. Поднял, оборвал лохмы: палкой было удобно поддевать сухие шапки куги; он, не надеясь, впрочем, что-либо обнаружить, добросовестно проверял свой участок. И ненапрасно: под одной из шапок он нашел старый ружейный приклад с вытертой до блеска плечевой пластиной. Стругов, кряхтя, нагнулся, вытащил приклад из-под куги, подержал его несколько секунд в руках, пробуя на тяжесть. Приклад был переломлен у курков. Скорбно-озабоченное выражение сковало лицо Стругова; трудно было понять, о чем он сейчас думает — то ли о возможной трагедии, разыгравшейся здесь, на маленьком уютном островке, то ли вспоминает фронт, бои и атаки, в которых ему, молодому пехотинцу, довелось участвовать, и оружие, к которому когда-то прикасались его руки.
Гупало оглянулся на Стругова, увидел приклад и позвал тихо:
— Товарищ Пермяков!
Начальник райотдела, гикнув, рысцой припустил к ним через камышинник, придерживая хлопающий по боку пистолет.
— Ну-ка, ну-ка, — закричал он, — следопыты, следователи, археологи...
— Где уж нам, — хмуро поддел примчавшийся следом Меньшов. — Это уж по вашей детективной части.
— Дай-ка, майор. Та-ак... — Пермяков провел ладонью по прикладу, ощупывая царапины, зазубрины, потом вскинул его к плечу, зачмокал губами. — Та‑ак. Судя но длине приклада, охотник был невысокого роста и некрепкий физически. В милицию работать я бы его не взял. Ей-ей.
Сам Пермяков, прочно сколоченный, грудастый, грубый и плечистый, любил все тяжелое, громоздкое, даже топорное, соответствующее собственной комплекции. И людей Пермяков ценил по своим меркам.
— Что приладился? — спросил у него Стругов. — Подходит или не подходит? Этих ребят приклад или давно уже здесь валяется?
— Разберемся, — туманно ответил Пермяков.
— Где уж разбираться, — Стругов досадливо швыркнул свернутым вдвое шлемом о колено. — Пошли дальше.
Собака продиралась сквозь камыши следом, низко опущенной мордой раздвигая стебли; когда Стругов обернулся, то увидел ее шею, длинную, лоснистую, в мокрых розовых проплешинах. Что знает эта собака, того не знают люди и не узнают. Черт побери, на Луне побывали, луноход, управляемый по радио, построили, о Марсе мечтаем, а вот язык друзей-животных понимать не научились, и неизвестно еще, когда научимся. Вот ведь...
Словно почувствовав что-то, собака остановилась и, потянув носом воздух, заскулила длинно, тонко, с тоской. Тут же, в ответ, в другом конце Охотничьего Става, в куговых зарослях, послышался сиплый лай, затем мягкий перебор лап по ракушечнику, сверху было видно — в камышинник словно торпеда вошла, тупо застучали друг о друга мшистые головки початков, раздался треск, короткий звериный рык, нутряное аханье ударившегося обо что-то тела, и на людей выскочила собака — тоже сеттер, только кирпично-пегий, с широколобой головой, угольно-красными, светящимися, как у кролика, глазами и блестящим от клейкой влаги носом. Одно ухо сеттера было надорвано точно посредине, ровно — будто ножом надрезано. Собака выскочила на Стругова, майор остановился, услышав за спиной дыхание, совсем невпопад подумал, что если бы он отважился заиметь собаку, то купил бы именно сеттера, статного, честного, умного, преданного. Но ни разу еще Стругов, человек одинокий (жена у него умерла), не рискнул поселить в своей квартире живое существо — ни кота, ни пса, ни рыбок — мешали частые командировки. Иногда он отсутствовал и по месяцу, и по полтора. А такое одиночество, голодовку только верблюд вытерпеть может. И с какой тяжелой душой приходилось бы уезжать Стругову в командировки — мысль об оставленном в квартире псе, голодном и необогретом, спешно гнала бы его обратно, он мучился бы, переживал, не спал по ночам. Не‑ет, живность — для оседлых людей, тех, из чьего существования изъято правило «одна нога здесь — другая там».
— Иди сюда, — шепотом позвал он собаку. — Сюда иди! Джек! Бекас! Дан, Джой! Юм, Бой, Флинт!.. Чик, Моль, Кронид, — майор скороговоркой выпалил все известные ему «дворянские» собачьи имена, но сеттер как застыл в трех шагах от него, так и не сдвинулся с места, только вильнул косматым, в свалявшихся катанцах хвостом н напряженно вытянул голову в ожидании. Стругов понял, почему собака не подходит, не обнюхивает, не ищет хозяина — сеттер находился с подветренной стороны и хорошо чувствовал запах каждого из них, давно уже разобрался во всем и уяснил, что хозяина среди прилетевших нет, потому и не стремился даваться в руки.
— Кронька, Чикуля, Флинтарь, Юмаша, — Стругов переиначил несколько имен в ласкательные, но собака не сдвинулась с места, лишь еще напряженнее вытянула голову, а глаза потемнели, став враждебными, настороженными. Стругов похлопал ладонью по колену, приглашая. Он ощутил, как свежеет и теплеет у него внутри от сочувствия к этому беспокойному и преданному животному, нагнулся, узрев краем глаза замысловатую, скрученную в спиралеобразную трубу ракушку, но не успел рукой дотянуться до диковинки, как сеттер, издав короткий приглушенный звук, в гигантском прыжке метнулся в сторону и, раздвоив грудью стенку камышинника, исчез.
— Вот так пе‑ес. М‑да, — Меньшов, находившийся рядом, цыкнул слюной, отер рот тыльной стороной ладони. Стругов не понял, одобряет ли Меньшов поведение пса или же, напротив, порицает, и он хотел было спросить, но Меньшов сам поставил точки на i, заключил: — Хозяину чрезвычайно преданный. Кроме хозяина, больше никого не признаёт. И не признает. Приручать такого пса целую жизнь надо. Почти невозможно... Одичает, в плавни уйдет, а с чужим человеком жить не будет. Мд‑да. Этот пес — однолюб, вот какая его порода.
Стругов посмотрел на Меньшова недоверчиво, но ничего не сказал в ответ, лишь махнул растревоженно рукой и, забыв про ракушку, прошел к хрустко расправляющемуся провалу, оставленному в камышиннике телом собаки.
— Эх, псина, псина, — произнес он в печальной раздумчивости, — куда же ты сбежал? Зачем тебе это? И где же люди, а?
Постоял несколько секунд молча, неподвижно опустив тяжелые, заросшие седеющим пухом руки с набухшими хребтами вен, грузный и несколько неуместный среди вызывающе ломкого, непрочного затишья. —