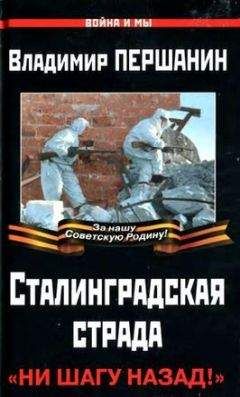Открытые дверцы несгораемых шкафов, обрывки бумаг, беспрепятственно носимые сквозняками, и этот гул пушек, врывающийся в окна, заботливо оклеенные накрест никому не нужными теперь бумажными полосками, — все это беспощадно напоминало, что привычная, родная жизнь ушла и надвигается какая-то новая, непонятная, незнакомая, которая казалась Митрофану Ильичу более страшной, чем сама смерть.
«Что же теперь, как же теперь? Ох, как все гадко!..»
Вдруг старику показалось, что в зловещей тишине обезлюдевшей конторы слышится плач. Он доносился откуда-то со стороны операционного зала. Будто на огонек, вдруг вспыхнувший во тьме, двинулся Митрофан Ильич на этот живой человеческий звук. В огромной пустой комнате он увидел машинистку Мусю Волкову. В пестром шелковом платье, показавшемся Митрофану Ильичу донельзя нелепым для такого печального дня, она сидела на подоконнике и, положив голову на завернутую в клетчатый платок машинку, рыдала шумно и громко, как плачут несправедливо обиженные дети. Рядом, на полу, валялся большой узел.
Скрипнула половица. Девушка вздрогнула, испуганно подняла голову. Узнав старого сослуживца, она бросилась к нему, схватила его за плечи и уставилась ему в лицо большими серыми глазами, гневно сверкавшими из-под темных, слипшихся кустиками ресниц.
— Вас тоже забыли? Да?
Не дав ответить, она гневно зачастила:
— Уехали! Вы понимаете: уехали, бросили нас, и горя им мало! Я побежала домой за машинкой… вы же знаете, я работала и дома, учрежденческая машинка — вот эта — была у меня. Управляющий сказал: «Ладно, наплевать на машинку, пусть остается». Наплевать на такую машинку! Ну, уж это извините! Я сказала: «Сбегаю, подождите». Они обещали ждать. Я ведь очень торопилась, но вы знаете, какая машинка тяжелая. Прибегаю сюда — здравствуйте! Никого. Уехали. Им не только на машинку — им и на нас с вами наплевать… Ну ладно, ну их! Пусть! Что мы — плакать будем? Да? Подумаешь!
Вдруг, как-то сразу успокоившись, девушка обтерла комочком платка слезы и следы смазанной губной помады, озорно тряхнула остриженными «под мальчишку» кудрями и решительно заявила:
— И без них расчудесно эвакуируемся! Очень мы в них нуждаемся! Вот увидите, мы еще их догоним. У них шина лопнет. И пусть лопается, так им и надо — не забывай людей!.. Вы поможете мне нести машинку?
Девушка стала хлопотливо увязывать машинку в платок так, чтобы ее можно было взвалить на плечо наперевес с объемистым узлом. Митрофан Ильич, смотря на суетившуюся машинистку, рассеянно думал: как могло это легкомысленное существо в такой день нарядиться в яркое новое платье и надеть лакированные туфли-лодочки, точно на танцульку! Вот она, молодежь… И все-таки как будет страшно, одиноко, когда исчезнет отсюда со своим узлом и машинкой и эта девушка — последний человек, последний осколок того привычного и бесконечно дорогого, что сегодня уходит на восток.
Машинистка связала наконец свои вещи и обернулась:
— Что вы на меня уставились? Зачем я так оделась, да? А чтобы меньше нести. Я старье побросала, только лучшие платья взяла. А это вот на себя… А где ваши вещи? Берите их, и идем скорей. Я знаю, по какой дороге они поехали. Вот увидите: сидят сейчас, свесив ноги в кювет, а шофер шины клеит.
— Я не пойду, — с трудом произнес Митрофан Ильич.
— То-есть как это не пойдете? Вы что?
Взгляд девушки показывал, что она действительно не понимала, как это можно остаться в городе, куда вот-вот ворвется враг. Чувствуя, как горячие волны стыда заливают лицо, Митрофан Ильич опустил глаза и, стараясь выговаривать как можно тверже, произнес:
— Я решил остаться.
— Остаться? С фашистами?
Девушка инстинктивно отпрянула от Митрофана Ильича и, как показалось ему, даже брезгливо повела худыми плечами. Потом серые глаза снова приблизились к его лицу; в них были и недоумение, и надежда, и мольба, и требование.
— Вы ведь шутите, да?… Ну, что же вы молчите? Пора идти.
Она произнесла все это таким тоном, что у старика не хватило духу подтвердить свое намерение.
Митрофан Ильич с удивлением смотрел на девушку. Он считал машинистку Волкову самой вздорной и легкомысленной из всех банковских сотрудниц. Печатала она, правда, быстро, грамотно, но обладала таким ядовитым характером и таким острым язычком, так любила при случае «отбрить», столько прозвищ надавала сослуживцам и столько разговоров шло о ее непочтении к учрежденческим авторитетам, что Митрофан Ильич, когда доводилось ему печатать отчетные ведомости, опасливо обходил эту тоненькую, курносую, коротко подстриженную девчонку с курчавым, пшеничного цвета чубом, всегда закрывавшим ее высокий упрямый лоб.
И вот теперь этот «Репей», как прозвали девушку сотрудники, смотрела на него так, что он, старый человек, не смел произнести слова, которые с такой тщательностью подготовил для объяснения с самим товарищем Чередниковым.
— Вы меня разыграли? Да?… Вот нашел время!.. Ну, пошли скорей, помогите мне взвалить на плечо эти узлы.
Митрофан Ильич покорно наклонился к Мусиным вещам, но тотчас же выпрямился и испуганно уставился в окно. По асфальту гулко разносился звук торопливых шагов. Двое мужчин в форме железнодорожников пересекали пустую площадь. Они на ходу читали вывески, разыскивая, должно быть, какое-то учреждение. Вот один из них, тот, что был помоложе и повыше ростом, указал на отделение банка, и оба бросились к подъезду. У молодого за спиной мотался, подпрыгивая, черный мешок.
Тяжелые шаги простучали внизу по ступенькам. Хлопнула дверь. Издали донесся хрипловатый возбужденный голос:
— Эй, есть тут кто?
И прежде чем Митрофан Ильич успел отозваться, в дверях появился высокий смуглый парень с мешком. Его форменная фуражка, помятая и замасленная до лоска, была сбита на затылок. Парень оглядел Митрофана Ильича и машинистку глазами такими черными, что даже белки имели кофейный оттенок. Взгляд у него был дерзкий и настороженный, точно он взвешивал, можно ли доверять этим людям.
— Ну, признавайтесь, — спросил он резко, — где тут у вас, в банке, начальство? — Он сбросил мешок со спины, подхватил его на лету сильными руками и бережно опустил на пол. — Или все уж удрали?
Тот, что был старше, левой рукой извлек из кармана носовой платок и стал вытирать вспотевшее лицо. Забинтованная правая висела у него на перевязи. На марле бурели пятна засохшей крови.
— Виноват, вы кто будете, товарищ? — спросил он Митрофана Ильича, с трудом преодолевая одышку и, видимо, изо всех сил стараясь говорить спокойно, вежливо.
— Корецкий, старший кассир… Но отделение банка действительно эвакуировалось. Мы с ней вот… — Митрофан Ильич запнулся, подыскивая нужное слово, и вдруг почувствовал, как вспыхнули его щеки.