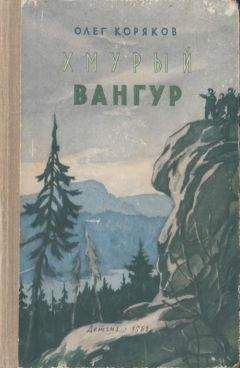Тетка, изредка поглядывая на племянницу, замечала, что взгляд ее устремлен не то на светящуюся напротив неоновую рекламу «Храните свои деньги в сберегательной кассе!», не то просто в высокое синее небо. «Размечталась девчонка, приятно, что по службе повысили», — решила старая женщина.
Совсем в другом доме, на другой улице сидел у окна Юра Петрищев и небрежно-лениво перебирал струны гитары. Томные, нежные звуки как-то плохо вязались с широкими, богатырскими плечами музыканта и крупными, несколько расплывчатыми чертами его простодушного лица. Но Юра был в комнате не один, и присутствие второго человека, женщины, стушевывало это несоответствие.
Вторым человеком была Юрина мама, сидевшая с вязаньем в руках на старой, потрепанной кушетке. Рядом с сыном она казалась совсем миниатюрной. В комнате стоял полумрак; свет из-под абажура-грибка падал только на сухонькие проворные руки женщины.
Им обоим, матери и сыну, было хорошо и чуточку грустно. Эта маленькая тихая женщина и ее большой ласковый (она хорошо знала это: ласковый) сын очень любили такие минуты. Он всегда ревностно заботился о ней, не давал делать ничего тяжелого, но в такие вот минуты, без слов и жестов, они особенно остро и сладко ощущали, как близки и дороги друг другу.
Стукнула входная дверь, и скоро в комнату скользнула длиннокосая Анютка, сестра Юры. В ту же секунду сна оказалась на коленях у матери, замурлыкала:
— Мамочка, я еще погуляю.
— Поздно, дочь.
— Ну я минуточку. Во-от такую маленькую минуточку! Хорошо?
Анютка мягко спрыгнула с материнских колен и, очутившись на подоконнике, зашептала брату:
— Юрка, ты что туг сохнешь? Там, в саду, знаешь сколько ребят и девчат собралось! И эта… твое «счастье с глазами серыми»…
Анютка прыснула и была такова.
Ну, это уж слишком! Все-таки надо будет ее как-то проучить. И когда она подсмотрела? Ведь он так тщательно скрывал от нее свои стихотворные опыты и, уж конечно, вовсе не хотел, чтобы она узнала эти строки:
Там, в таежной глуши, у скал.
У седого лохматого дерева,
Встречу ту, что давно искал, —
Свое счастье с глазами серыми.
Выходит, она знает и эти строки из заветной коленкоровой тетради, и то, что счастье-то уже отыскано, правда ни в какой не в глуши таежной, а в обыкновенном городском соседнем доме.
Что ж теперь делать? Теперь и пойти туда как-то не хочется… Ну, полно врать: все равно хочется. А Анютка?.. Подумаешь, Анютка!
— Мама, я, пожалуй, тоже… прогуляюсь.
Мать спрятала улыбку, закивала:
— Прогуляйся, Юрок, конечно! — И, провожая сына взглядом, мысленно поворошила его лохматую голову…
Профессор Кузьминых отодвинул рукопись, откинулся от письменного стола и обеими руками потер лицо так, будто умывался. Грузно поднявшись, он побрел на кухню, к жене:
— Мать, в черепной коробке заворот. Дай какую-нибудь работу полегче.
— Полежи. Хорошая работа. Или, так и быть уж, популькай.
Столь пренебрежительно — «популькать» — она называла любимые профессорские упражнения в стрельбе из духового пистолета. Этот совет Алексей Архипович пропустил мимо ушей. Молча подошел он к водопроводному крану, вымыл руки и молча отстранил жену от кухонного стола.
— Ты что?
— Посиди, мать, посмотри, как пирожки надо стряпать.
— Ох, горе ты мое! И всю-то жизнь мешает мне на кухне! Угораздило же человека попасть на геологический рабфак! В повара надо было идти.
— А что? Получается?
— Глаза бы мои не глядели!
— Ну и отвернись, не гляди.
— Как вы там сегодня, решили хоть, когда ты наконец в тайгу свою ненаглядную отправишься?
— Скоро, мать, скоро.
— Бориса-то с собой берешь?
— Пушкарева? Нет, любимца твоего мы в самую что ни на есть глушь думаем загнать.
— Как же ты без помощника останешься?
— А уж это, матушка, не твое дело — мое, служебное.
— Ох, какой принципиальный!
Записать бы их разговор на магнитофон да послушать — бранятся муж с женой… А они оба улыбаются и поглядывают друг на друга ласково, влюбленными глазами, почти как тридцать лет назад…
А вот еще комната. В ней не очень уютно, но, в общем, удобно и чисто. Даже удивительно, что так чисто: ни на книжных шкафах, ни на столике, где разложены образцы минералов нет ни пылинки. Удивительно потому, что это жилье одинокого, холостого мужчины. А таковые, как известно, считают себя неприспособленными к столь тяжкому труду, как вытирание пыли… Впрочем, и в этой комнате не все на своем месте: недопитый стакан чая, сахарница и чайник стоят на письменном столе, рядом с пожелтевшей от времени фотографией, на которой изображены бородатый мужчина и худенькая крестьянка с застывшими лицами.
Одетый по-домашнему, в пижаме, Пушкарев сидит на краешке стола и задумчиво смотрит на фотографию, не на ту, пожелтевшую, — на другую. Вот он осторожно коснулся бумаги… не то погладил, не то убрал малюсенькую соринку.
Эх, Наташа, ничего-то ты не знаешь! Ведь в руках Бориса Никифоровича твой портрет…
В дверь постучали. Пушкарев поспешно сунул фотографию в лежавший под рукой том «Избранного» Ферсмана, встал:
— Да!
На пороге, снимая шляпу, стоял Николай Плетнев.
— Добрый вечер, Борис Никифорович. Не ожидали? А я вот нагрянул… О, новое издание! Я еще не видел. — Николай протянул руку к «Избранному».
Вспыхнув, Пушкарев чуть не выхватил том у Плетнева и тут же убрал в шкаф:
— Извините, я не просмотрел еще сам.
Николай в недоумении замялся.
— Я, собственно, на одну минуту. Можно? — Он придвинул к себе стул; чтобы хозяин пригласил сесть, тут, видимо, не дождешься.
Пушкарев остался у книжного шкафа, в тени. Вспыхнувший румянец быстро сползал с его щек. Плетнев сел, покрутил шляпу и, преодолевая неловкость, заговорил:
— Борис Никифорович, я люблю напрямик. Поиски на Вангуре вверили в ваши руки. Я уважаю ваши знания, опытность, но то неодобрительное отношение, которое вы… В общем, понимаете, успех моей диссертации…
Пушкарев сдержанно прервал:
— Понимаю, Николай Сергеевич. Скажу вам тоже прямо. — Глядя через окно на вечерний город, он чуточку подумал. — Меня интересует не столько успех вашей диссертации — это дело второе, сколько успех работы на Вангуре. Сомневаюсь я в нем или нет, поскольку на меня возложили определенные обязанности, я их выполню до конца. — Тут он взглянул на Николая в упор. — В этом вы можете быть уверены.
Пушкарев замолчал и начал раскуривать трубку. В пижаме он выглядел еще более худощавым, и эта простая одежда не придавала ему уютного, домашнего вида. Лицо его, остававшееся в тени, было видно плохо, низкий голос звучал монотонно, словно он произносил заученные фразы.