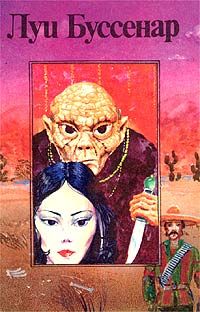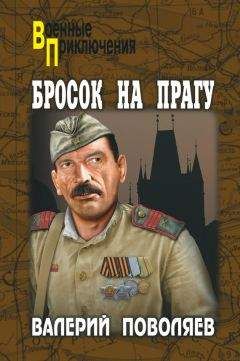– Сколько?
– Один.
– А у Бобровского?
– Не знаю. Бой идет… Десять минут назад потерь не было.
– Узнай и доложи!
– Есть!
– И готовься к отходу! – приказал начальник отряда.
Он перечислил заставы, где сейчас шел бой. Правда, положение там было получше, чем на «тихой» заставе.
– Жаль, – вздохнул Панков.
– Мне тоже жаль, но делать нечего. Восстанавливать заставу не будем. Восстановим – ее снова сожгут. Куда отходить – ты понял хорошо?
– Так точно! – Панков прикинул, сколько же им, – а главное не сколько, а как, – придется идти до соседней заставы, где этой ночью было на удивление тихо, ни одного душмана, ни одного выстрела, – поморщился: восемнадцать километров. Восемнадцать километров – это дорога немалая. Так что идти придется со сбитыми ногами. С боезапасом. Да еще и огрызаться. Душманы ведь обязательно потянутся следом. – Все понял, – бодро отозвался Панков.
– В общем, когда рассветет, – отходи. А пока держись. И жди помощь! – голос начальника рассыпался, будто столбик пепла под ветром, что-то в нем зашипело, захрустело, голос перерос в пороховой треск и исчез. Эфир теперь был целиком заполнен звуком горящего костра.
– Не вовремя оборвалась связь, – сожалеюще проговорил Панков и передал трубку Рожкову. – Спасибо, Жень.
Поглядел вниз, на заставу. Казарма догорала, в слабеньком свете были видны гигантские зубья обугленных стропил; сгорела и канцелярия, и баня, и слесарка – все сожрало пламя. Строители, тянувшие дорогу, срубили этот поселок наскоро, кривобоко, криворуко – работа была сделана «тяп-ляп», ни уму, ни сердцу, и, хотя Панков вложил в заставу много души, труда – думал, что задержится здесь, а задержаться, как видно, не удастся. Квартира его, похоже, также выгорела – на горы пялились пустые черные зенки окон.
Панков вздохнул, потер рукою грудь – что-то перехватывало ему дыхание, сдавило горло, кислорода совсем не было, в глотке скопилась одна горечь, желудок тупо болел, – Панков вспомнил, что давно не ел, и эти боли были голодными, – в ушах звенело. Он позвал тихо:
– Чара!
Собака поспешно ткнулась ему в руку холодным носом, поддела вверх, словно бы хотела что-то сказать.
– Связи больше нет, товарищ капитан, – вздохнув, сообщил радист. Ну как будто открыл Америку. – И до ночи вряд ли будет.
– Понял, – сказал капитан. – Значит, так, Рожков… Я сейчас с Чарой быстро спущусь к себе в дом, заберу, что у меня там осталось… А ты прикрой меня, если что. Ладно?
– Так точно! Лады.
– Чара, за мной! – скомандовал Панков, перемахнул через бетонную опояску, заперебирал ногами по каменистому склону. Ноги вроде бы отошли окончательно, слушались Панкова. Следом за ним, громыхая и подпрыгивая, понеслись голыши, каменные сколы, спекшиеся комки породы. Чара бежала рядом с капитаном.
Над головой, жарко обдав воздухом, пропела крупнокалиберная пуля, Панков невольно отметил, что задержись он на сотую долю секунды – пуля впилась бы ему в тело, но он оказался проворнее ее, прыгнул в каменистую воронку, оставленную «эресом», не долетевшим до цели. Скомандовал:
– Чара, сюда!
Чара послушно легла в воронку рядом с хозяином. Панков, тяжело дыша, – в горах даже бег вниз заставляет загнанно биться сердце, вызывает слезы, боль, спазмы в легких, дыхание осекается, здесь никогда не хватало и не будет хватать кислорода и привыкнуть к этому не дано никому, никакие тренировки не помогают, – огляделся.
Справа работал пулемет Дурова – на него, похоже, навалились не только душманы, пришедшие из-за Пянджа и переправившиеся через реку ниже заставы, но и люди памирца. Дурову повезло – из-за Пянджа на его участок пришло не так много людей, основная часть душманов переправилась через реку выше заставы и воюет она теперь с десантниками Бобровского. Памирец, судя по всему, разминировал одну из троп и его задержал Дуров. Слева было тихо. Из деревни также перестали стрелять.
– Чара, вперед! – коротко выкрикнул Панков и, ловя сердце собственной грудной клеткой – накрыл его, как плетеным сачком, – выпрыгнул из окопа.
Оскользнулся на камне, проехал немного на ногах, перемахнул через широкую гранитную грядку. Недалеко в валун впилось несколько пуль, металл выбил искры, земля под ногами невольно дрогнула – земля наша вообще отзывается на все чохи, на все уколы и царапины, на всю боль, что мы причиняем ей, вздрагивает, словно живая, – и в этот раз Панков, сострадая ей, сморщился, выплюнул изо рта хриплый выкрик, перемахнул через очередной валун.
Минут через семь он был уже у своего дома.
В сенцах тлели головешки, попыхивали едким дымом, в одной комнате обгорела и затухла от холода и сырости мебель, вторая комната, странное дело, была почти нетронута. Панков удивился – снаряд-то ведь почти точно лег в его квартиру, тут живого места не должно было остаться, только дым да головешки, – все остальное, казалось ему, еще час назад превратилось в пепел, но снаряд, оказывается, лег не в квартиру, а прошел чуть выше ее и в стороне, сбил часть крыши и разрушил вторую, не видимую с гор, «пянджскую» часть дощаника. Холодильник и телевизор – самое ценное, что имелось в квартире – были разбиты.
– Мура все это! Наживем, – пробормотал Панков, схватил висящий на спинке железной кровати рюкзак, сунул туда альбом с фотоснимками, лежавший в шкафу, альбом был припорошен копотью, но цел, дернул на себя перекошенный ящик стола, вытащил коробку с орденом, кинул туда же, в рюкзак, швырнул письма, сложенные вместе и засунутые в плотный полиэтиленовый пакет, покидал кое-что из мелочей – небьющийся стакан, бритвенный прибор, горсть карандашей, полбуханки сухого, глинистого цвета хлеба и три луковицы – НЗ на нынешний день; он рывком выдергивал ящики один из другим, хватал что-нибудь приметное, бросал в темное нутро рюкзака, последнее, что он кинул туда, была бутылка водки с надписью «пшеничная» – тоже НЗ, – купленная в Душанбе, в аэропорту, у стюардов московского рейса.
Задернул горловину рюкзака, замер, стоя с согнутой спиной посреди комнаты, прощаясь с тем, что находилось здесь, – с остающимися вещами, с собственным недавним прошлым.
Откуда-то сбоку резко и вонюче потянуло дымом, будто где-то рядом жгли резину, – наверное, от машины, но горящая машина оставляет совсем иной запах, он поморщился, помотал головой, снова поморщился от того, что в затылке тупо и тяжело заплескалась жидкая горячая боль. Заглянул в соседнюю комнату – может быть, там что-то вновь загорелось, какая-нибудь химия, пропитанная особым составом тряпка, допустим, для протирки мебели, или что-нибудь еще, но в комнате ничего не дымилось, дым приплывал со сторон, и Панков, вздохнув, пробормотал на прощание: