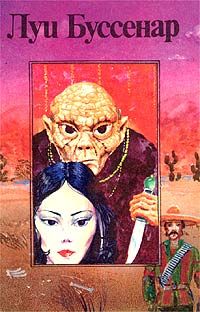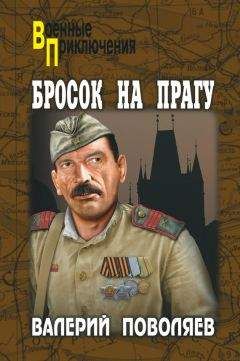– У меня, слава Богу, куриной слепоты нет, – сказал Грицук.
«Нет, так будет», – хотел было сказать лейтенант, но сдержал себя, промолчал, обеспокоенно помотал рукой в воздухе и взялся за старую тему:
– Отвратительное время. Умные люди называют его «между волком и собакой». Действительно, ни одного волка, ни одной собаки не видно.
Душман пополз дальше. Он полз, не издавая ни одного звука – ни царапанья, ни бряцанья, ни шороха, – душман был беззвучен, бестелесен, как привидение.
– Мы уйдем, а дальше что? – Грицук потерся щекой о воротник куртки, пожаловался: – Холодрыга! – высморкался за бруствер. – Мы уйдем – придут другие. Душманы захватят власть, большая кровь прольется. Ведь душманы – голодные. Пока не наедятся – не остановятся. Вот дела, так дела… И еще, лейтенант, мне не понятна жестокость мусульман. Вот что они делают – отрезают головы, с живых людей сдирают шкуру, вспарывают животы, набивают их землей. Разве этого требует от них Аллах?
– И мне не понятна их жестокость, – сказал Назарьин, – думаю, что Аллах здесь ни при чем.
– Если не Аллах, тогда кто заставляет их быть такими? Вера? Ислам?
– Что вера, что Аллах – это одно и то же.
– Не знаю. Думаю – собственная душевная убогость, злость на русских за то, что те работали на них, а сейчас перестали работать. Или что-то еще… Я не знаю, что. Не специалист. Был бы специалистом – ответил бы.
Плоско прижимаясь к земле и по-прежнему не издавая ни одного звука, душман продолжал ползти к пулеметному гнезду. Он находился совсем недалеко от окопа.
– А вдруг они сейчас полезут? – опасливо ежась, спросил Грицук. – В темноте… Мы не увидим их.
– Если не увидим, то услышим, – уверенно произнес Назарьин. – Руки-то с ногами они имеют? Имеют. Значит, топотнут где-нибудь, шаркнут, на камнях споткнутся – услышим!
Чуть поднявшись над землей, душман огляделся, точно услышав бормотанье – промахиваться было нельзя, – и ловко метнул в окоп две гранаты – вначале одну, потом другую, нырнул вниз, прижался к земле, головой притиснулся к небольшому холодному камню.
Из окопа донесся вскрик – первая граната булыжиной ударилась в лейтенанта, отбила ему плечо и хлопнулась вниз, под ноги, за первой в него попала вторая, обожгла бок, и Назарьин, складываясь пополам, ткнулся головой в стенку окопа.
В следующее мгновение из-под тела у него выплеснулся огонь, рванулся вверх. Яркий слепящий свет – это было последнее, что увидел Назарьин в своей короткой жизни, свет ослепил его, обварил яростным жаром и в следующую секунду растворил в себе.
Взрывом с Назарьина содрало одежду, швырнуло в сторону, тяжелый пулемет выбило из окопа, подбросило в воздух. На лету у пулемета оторвало ножки, они по-козлиному резво заскакали по камням. Назарьина скрутило восьмеркой, поотрывало пальцы на руках… Следом за первой гранатой под ним взорвалась вторая. Грицука волной выдавило из окопа, покатило по земле, прапорщик закричал, когда его спиной ударило о камни, продавило хребет, – и потерял сознание.
В каменном проеме появились душманы и – вначале жидкой, осторожно пригибающейся к земле, а потом быстро уплотнившейся, стремительной, опасной лавой покатили на пулеметный окоп Назарьина. Лава, одолев окоп, понеслась дальше, в гнездо спрыгнули два душмана, ухватились руками за остатки спортивного трикотажного костюмчика, который Назарьин надевал вниз вместо белья, приподняли то, что еще несколько минут назад было Взрывпакетом, с сожалением поцокали языками:
– Мертв!
– И ничего нельзя взять? – спросил остановившийся около окопа полевой командир, возглавляющий группу.
– Бесполезно.
– Даже документы?
– Даже документы. Гранаты все перемесили. Ничего целого.
– Оружия нет?
– Кроме одной гранаты, нет, – душман снял с каменной, специально вырубленной полки «лимонку», подкинул в руке, похвалил: – Хороший овощ!
– Тогда не задерживайтесь, догоняйте нас! – скомандовал полевой командир и побежал дальше.
Около оглушенного Грицука также остановились душманы, рывком подняли на ноги. Грицук, приходя в сознание, застонал.
– Живой, – удовлетворенно пробормотал один из душманов, хапнул рукой карман куртки прапорщика, выдернул оттуда пистолет – старый, поставленный на предохранитель «макаров».
– Я ему не завидую, – сказал второй душман.
– Нечего болтать! Поволокли его в тыл – бакшиш получим!
Они подхватили грузного, с отшибленными ногами прапорщика под мышки и проворно, оглядываясь на огонь, взметывавшийся над заставой – пожар неожиданно усилился, хотя на заставе гореть было уже нечему, все сгорело, – потянули Грицука в тыл. У них, кроме полевого командира, остановившегося около пулеметного окопа на несколько мгновений, был свой командир. Он-то и должен был решить судьбу пленного и выдать доблестным моджахедам премию.
А в каменный проем продолжали втягиваться душманы. Они устремлялись к заставе. Ничто больше не сдерживало их. Застава перестала существовать.
В такой странной войне, как война на таджикской границе, которую официально никто не объявлял, могло случиться всякое – такое, что не случается даже на войне настоящей, большой, объявленной всему миру. Ощущения, состояние солдат, которые находились на фронтах Великой Отечественной, где-нибудь под Великими Луками или в Праге, и психологическое состояние тех, кто лежал сейчас на стылых памирских камнях, – совершенно разные. Все зависит от цели, от выбора: тогда была одна цель, сейчас другая. Одно только осталось неизменным – боль, которая оглушает человека, подсеченного пулей.
Всегда, во все годы и века, воюющие люди одинаково остро чувствовали боль и радость, слезы и облегчение, одинаково стремились к теплу и песне, одинаково хотели женщин и ненавидели стрельбу.
Только вот это, пожалуй, и не изменилось. Все остальное стало другим.
* * *
Рация, которая находилась при Панкове, работала плохо – стационарная была разбита «эресами» на заставе, а переносная, сколько над ней ни колдовал Рожков, не могла одолеть высоких каменистых кряжей: связь с отрядом то возникала, то исчезала. Голоса были далекими, трескучими, словно говорили не люди, а какие-то тараканы, прилетевшие к нам из других миров и залезшие в пластмассовую трубку.
– Дальше будет хуже, – мрачно проговорил Панков, – когда рассветет и связь вообще прервется.
В светлое время связь всегда была хуже, чем в темноте, это было проверено тысячу раз. Так было до Панкова, так будет после него.
Перед рассветом на Панкова вышел начальник отряда.
– Доложи потери!
– Потерь пока нет. Есть раненые.
– Сколько?
– Один.
– А у Бобровского?