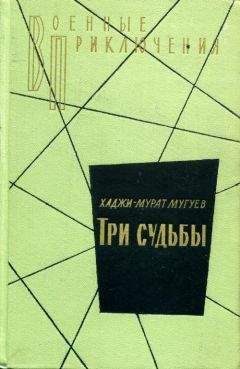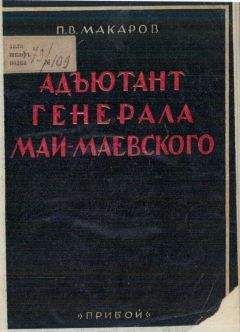Цитович вел передачи в Центр ежедневно по нескольку часов в сутки. Чтобы не обращать на себя внимание жильцов дома, он никуда не выходил, а Кося перебралась на другую квартиру. Вскоре после переезда Кося заметила, что с ней раскланивается один железнодорожник из Пётркува, подозревавшийся в сотрудничестве с немцами. Старый инвалид Байсе, торговавший папиросами, предупредил Тадека, что и хозяин, у которого снимает комнату Кося, «плохой человек». В тот же день Тадек заметил, что над их домом пролетел самолет, а неподалеку стоит странного вида автомашина с откинутыми бортами. Было принято решение перебазироваться в Краков. Однако у Цитовича накопилось много радиограмм, и они решили задержаться еще на один день.
Во время сеанса передачи — это было около десяти часов вечера — Тадек выглянул в окно и увидел, что два соседних дома окружают гестаповцы, полицейские и солдаты. Передачу мгновенно прервали, Цитович сжег шифр и приготовился к обороне. Наблюдая из окна, Тадек и Цитович видели, как немцы обыскивали соседние дома. Одна группа направилась к их дому, но в квартиру, где находился передатчик, не вошли, так как она принадлежала механику, работавшему на авиазаводе и потому считавшемуся достаточно проверенным. Ничего не обнаружив, немцы готовились уже к отъезду. И в последний момент кто-то из немцев заглянул в кладовку возле дверей их квартиры и обнаружил там радиодетали. Они услышали крик:
— Ко мне! Эти сволочи здесь!
Раздался треск разбиваемой прикладами двери. Ворвавшись, немцы схватили Тадека. Цитович выпрыгнул в окно, но попал прямо в руки гитлеровцев.
Их доставили в гестапо в Жешуве, а потом автомашиной перевезли в Краков. Началось следствие, очные ставки. Через три месяца следствия гестаповцы расстреляли Цитовича. Тадека Квапиша и Юзека Клюфа отправили в концлагерь.
После неудачных попыток разыскать передатчик в Пётркуве я решил собрать собственными силами новый. С помощью Юрека Маринжа и Богдана Крыловича я установил контакт с радиоинженерами Симонисом и Ежи Зюлковским (по странному стечению обстоятельств моим тезкой), которые занялись сборкой передатчика. Дело это было кропотливое и опасное — немцы грозили расстрелом за укрывание радиодеталей. К тому же не хватало денег, деталей и помещения, где можно было бы монтировать рацию. Сборка затягивалась, мы так ее и не закончили — пришло освобождение.
В январе 1943 года Зофья Дуллингер дала знать из Павяка, что наших заключенных отправляют в Майданек. Были отправлены Игорь и Ирмина. Появилась возможность выкупить их из концлагеря через посредство одного немецкого чиновника в Люблине. Я попросил ее немедленно туда выехать и обстоятельно изучить возможности выкупа. В результате переговоров в Люблине Зофье было обещано выпустить Игоря за 50 тысяч злотых, если в его тюремном деле не окажется каких-либо особых пометок.
Следовало торопиться, используя неразбериху в лагере, связанную с огромным поступлением заключенных. Окончательно переговоры должны были завершиться на следующий день. Я тем временем готовил для Мицкевича временные документы. Оставалось решить, где добыть деньги. Пятьдесят тысяч — сумма довольно большая, а времени в обрез. Зофья предложила обратиться за помощью к своему знакомому Адаму Браницкому, которого в его среде прозвали «красным графом» за либеральные взгляды и просоветскую ориентацию. Тот дал нам нужную сумму на довольно длительный срок.
Но когда Зофья вернулась в Люблин с деньгами и документами, выяснилось, что выкуп невозможен, так как в деле Мицкевича значилось, что он приговорен к смерти. Все наши усилия пошли насмарку, но мы не оставляли своих товарищей и продолжали оказывать им посильную помощь, посылая посылки и деньги.
В это время прошел слух, что Арцишевский тоже переведен в Майданек. Увы, это не соответствовало действительности. Ни Гурницкая, ни мать братьев Жупанских, ни Стефан Выробек, содержавшиеся в Майданеке, этого слуха не подтвердили. Установить контакт с Арцишевским нам так и не удалось.
О дальнейшей судьбе арестованных членов группы «Михал» мне удалось узнать только после войны по воспоминаниям тех, кто пережил кошмар тюрем и концлагерей.
Леон Ванат в своих воспоминаниях пишет:
«28 июля 1942 года в 11 часов утра к Павяку подъехал открытый грузовик. Он не остановился, как обычно, у входа в здание, а свернул налево. В машине, битком набитой до зубов вооруженными гестаповцами, привезли арестованных, которых сразу же поместили в тюремную больницу. Мицкевич был без сознания. У него оказался простреленным череп, но мозг задет не был. Крупович была ранена в печень и находилась в таком тяжелом состоянии, что ее не стали даже оперировать. Арцишевского, раненного в бедро, перевели вскоре в 1-й отдел и содержали в карцере…
Всех троих сразу же стали допрашивать. Их истязали, мучили, потом попытались сломить посулами, обещая интернировать как офицеров, если они дадут показания.
Ирмину Крупович, когда она почувствовала себя лучше, из больницы тоже перевели в 1-й отдел, в карцер, где она просидела три месяца. 17 января ее отправили в концлагерь в Майданек. С этой же партией прямо из тюремной больницы в Майданек был отправлен радист Игорь Мицкевич…
Миколай Арцишевский, командир группы парашютистов «Михал», остался в Павяке, в карцере. Его продолжали допрашивать.
Держался он стойко, несмотря на зверские истязания. Гестапо обещало ему после следствия перевести в лагерь для военнопленных. Но он этому не верил.
И вот наступил памятный день 11 мая 1943 года. В тюремную канцелярию вошел офицер гестапо гауптштурмфюрер Пауль Вернер. Со зловещей усмешкой на лице он приказал доставить Арцишевского. Когда того привели, Вернер с помощью переводчика, заключенного Теодора Мюллера, довольно доброжелательно — как всем показалось — беседовал с ним в комнате, соседней с канцелярией. Потом Вернер приказал вывести Арцишевского в коридор, а сопровождавшему его конвоиру крикнул:
— Расстрелять!
Это прозвучало как гром среди ясного неба.
Вернер ушел, а конвоир и Арцишевский зашли еще и канцелярию. Миколай, видимо, понимал, что это конец. Мы попрощались взглядом.
В сопровождении конвоира, державшего в руке пистолет, Михал шел к воротам. Шел выпрямившись, без пиджака, с непокрытой головой…
Издали до меня донеслось глухое эхо выстрела»[29].
О судьбе Мицкевича мы узнали из письма В. Хоффмана, которое он направил 10 марта 1947 года Ирмине Крупович.
«Письмо от 3 марта я получил только сегодня и сразу спешу сообщить все, что знаю об Игоре. Нерадостные это сведения и неутешительные, но лучше знать правду, чем жить в неведении. С Игорем мы сидели вместе в Павяке (в разных камерах, но в одно и то же время), потом я видел его в Майданеке, затем нас вместе перевели в Бухенвальд. Там мы жили вместе в бараке 37, в одном крыле. Сидели за разными столами, но виделись и разговаривали ежедневно. Игорь работал на заводе на территории лагеря. Так продолжалось до весны 1944 года, когда в один из дней его вызвали в политический отдел лагеря. Я точно не могу вспомнить дату, он был вызван внезапно перед обедом прямо с работы и после этого бесследно исчез. Спустя много времени мы узнали от товарищей по заключению, обслуживавших крематорий, что Игорь был расстрелян, а тело его сожгли в крематории».