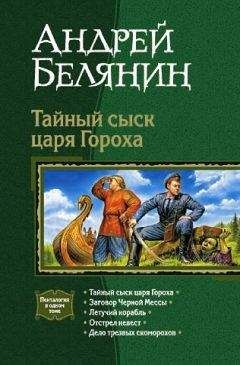полубезумными миссионерами, которые суют в руки свои красочные агитационные журнальчики и зазывают в молильные дома петь под гитару «Алиллуя, Джесус Крайст!». Хотя я не осуждаю таких людей: во мне рядом с естественным раздражением живет уважение к тому, что они имели мужество поехать в чужую страну рассказывать о своей вере. Что же, дорогие коммивояжеры с красочными каталогами божественных услуг, это ваш путь: стучите в дома и предлагайте Божью Благодать, как представители компаний мобильной связи предлагают акционные сим-карты… Я не буду этого делать, ибо Бог не пришел ко мне с ящиком благодати, и не рассказал мне о ее цене.
Но оказалось, там, в песках Сахары, вера была не вопросом праздного обсуждения, как мы к этому привыкли здесь, в мирной и безопасной обстановке. Это совсем не то же, что сидя в уютной обстановке за чашечкой чая с шоколадным бисквитом сказать: «А поговорим о Боге…». Здесь, в обычной жизни, можно говорить все, что угодно: смеяться, жеманится, строить из себя оригинала, манерно оттопыривая пальцы. Там же действительно все по-другому. Я никому не собираюсь ничего навязывать, просто расскажу то, что было и наверное навсегда останется для нас важным.
Проснувшись от беспокойного сна, среди ночи, я тайком вышел во двор к машине и перво-наперво прочитал заговор. Странно от меня такое слышать? Но это правда.
Мой дед, Царство ему теперь Небесное, еще когда я был маленький, рассказывал, как однажды старослужащий-фронтовик научил его заговору для воина, идущего в бой. Все время для меня это было сказкой, просто любопытным дедушкиным рассказом. Как и все пожилые люди, свой рассказ дед повторял не раз, и даже не два. И я, ради прикола, даже заучивал этот заговор-молитву. Но никогда не относился к этому серьёзно. Потом постепенно это все забылось, вылетело из головы.
Но, поет «Любэ»: «когда минуты роковые настают, и волны черные до неба достают, в недобрый час, в недобрый час. Мы повторяем как все люди на Руси, помилуй Господи нас грешных и спаси…».
Беспокойной ночью перед первой поездкой в Ливию, ночью, когда в наше открытое окно светила громадная серебристая луна, я вдруг вспомнил о дедушкиных рассказах. Ворочаться в душной постели не было сил. Достав из кармана ручку и какой-то обрезок бумаги (кажется рекламный буклетик «Окна-Двери», который нам вручили еще в Киеве), я на обратной стороне стал записывать все, что мог вспомнить. При этом вспоминалось все мучительно, меня просто охватывало временами отчаяние. Нашкрябав что-то более-менее похожее, я три раза обошел наш грузовик, каждый раз читая:
«Благослови Господи мою молитву, что вверяю я Святому Георгию Победоносцу, Змия повергшего. Правый, славный и всехвальный Святой Георгий, прими милостиво ходатайство мое. Благосердие твое будет мне верною порукой, ибо Сам Создатель дал тебе опекать и сохранять воинов на поле брани. Сам ты сохрани и укрой своей святой пеленой воинов, рабов Божьих Алексея, Евгения и Халида. Утешь скорби их и укроти страхи дневные и ночные. Не допусти к телам их раны лихие. Пуля их пусть не возьмет, острое копье не пробъёт, враг не увидит и мимо пройдет. Ярый огонь их тела обойдет, и сами с поля брани живые и здравые придут. Господи помоги! Господи благослови! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь.».
Может быть, конечно, кто-то из знающих и богомольных скажет, что грех было просить за мусульманина, но я об этом даже не подумал, да и сейчас не сильно в этом раскаиваюсь. Если ехать в одной машине по одной дороге, то мне ли делить: «за этого прошу, а за этого – не прошу». Пусть делят те, кто профессионально торгует Именем Божьим – они с этого живут; а я человек несведущий и поступаю, как умею. И мне, невежде, неизвестно, как пролегают в раю границы. Кроме того, в тех же сурах Корана сказано: «Скажи: «Если будущее жилище у Аллаха для вас исключительно, помимо иных людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы! Но никогда они не пожелают ее из-за того, что готовили их руки. Поистине, Аллах знает про неправедных… Поистине те, которые уверовали, и те, которые обратились в иудейство, христиане и сабии, которые веруют в Господа и в последний день, и творили благое – им их награда у Аллаха, нет над ними страха и не будут они печальны».
Халид, до того довольно наплевательски относившийся к своим обязанностям правоверного мусульманина в аспекте пятикратного намаза, теперь, расстелив молильный коврик, подолгу припадал к земле, твердя «А-а-лля Акбар, А-а-лля Акбар». Мы тоже, в частности я, внезапно вспомнили о своем вероисповедании, и украдкой крестились, произнося «Отче наш», и «Да воскреснет Бог…». И откуда только все вспомнилось? Жека поначалу во всему происходящему относился критично, так, будто ему было неудобно и стыдно примкнуть у нашим обращением. Впрочем, мне самому поначалу было как-то «ніяково». Но ни насмешки, ни даже легкой скептической ухмылки, обычной для Жеки при подобных обстоятельствах, не было. Он молча стоял и «внимал», и когда ему казалось, что его никто не видит, поспешно, будто делая что-то постыдное и боясь себя обнаружить, крестился. Нам совсем не мешало, что Халид мусульманин, а мы – православные: почему-то в тот момент мы совсем не чувствовали никакого диссонанса, никаких разногласий, – даже ничего похожего на то странное неприятное чувство, который порой охватывает, когда видишь, как по нашим улицам идут славянские девушки в хиджабах. Ничего этого не было.
Ни я, ни Жека, ни Халид не были религиозными фанатиками, мы просто были людьми, которым очень страшно. Может потому, что все мы не слишком глубоко верующие, мы не чувствовали к друг другу даже тени отчужденности. Нам не жалко было, если бы был прав только один из нас и только одного из нас услышал бы Всевышний: все равно мы молились за всех нас вместе. Нас не смущало может быть и кощунственное, странное звучание, когда в коротких утренних сумерках мы выходили за забор в пустыню и после протяжного пения Халида и его многократного «А-а-лля Акбар» следовало, словно эпилог, наше «Отче наш, иже еси на небесах…».
И на какое-то мгновение над серой пеленой бесконечной пустыни воцарялась звенящая тишина, и в это мгновение далекий-далекий горизонт прорезал лучик восходящего солнца. Мы вставали с песка, отряхивались, и нам как-то становилось легче и светлее. И мы шли к нашей обшарпанной машине, чтобы отправится в ад и вернуться из него.
Правда, как позже оказалось, мое представление об «аде»