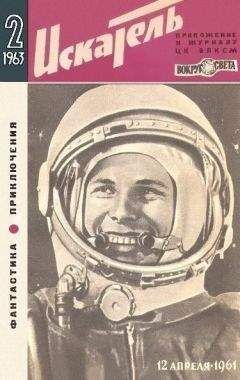Крепко сжатый в пальцах карандаш громко хрустнул — сломался.
Василий Петрович торопливо обернулся. Ночное время, право, не для таких эмоций. Конечно, он, полуночничая, снова разбудил жену.
Который раз, которую ночь.
— Чаю хочешь? — спросила Анна Михайловна.
— Спасибо. Не беспокойся.
Жена вышла на кухню.
Василий Петрович выкинул обломки карандаша в корзину и, откинувшись в кресле, стал смотреть в окно.
На морозных рисунках искристо дробился свет луны. Стекла казались голубыми.
Вернулась жена. Поставила на письменный стол стакан с крепким чаем.
— Спасибо, Аннушка.
Она обняла рукой его голову и, улыбнувшись, сказала:
— Что это у тебя за траектории нарисованы?
— Траектории? Нет… Так, рисую.
— Ложился бы. Утро вечера мудренее.
— Тогда пропадет твой чай, — отшутился Василий Петрович, — не напрасно же ты вставала.
— А все-таки, коли дело до траекторий дошло, лучше спать.
«А почему бы и не траектории? — задумался Талаев. — Если достать ракет и вместо осветительного состава наполнить их глинистым порошком с бациллами — чем не выход? Пусть придется обстреливать каждое дерево! Самолета я просить не могу…»
Осветительные ракеты нашлись на биофаке университета. Преподаватель и секретарь партбюро факультета Кирилл Андреевич Громушкии, узнав, в чем дело, отдал Талаеву весь запас. Не было ракетницы. Талаев одолжил ее у летчиков из отряда лесной авиации.
Весной квартира Талаева походила на оружейную мастерскую. Осветительные ракеты приходилось разряжать, и набивать заново мешочками с препаратом, устанавливать в каждом патроне дистанционный самодельный взрыватель, используя бикфордов шнур.
В середине июля Василий Петрович выехал в тайгу.
— Добро, — сказал лесничий, к которому приехал Талаев. — Смотреть страшно, как тайга гибнет. А кончился кедрач — и зверя нет. Все начисто уходят. Соболя, медведи, лоси. Мертво. А гусеницы и вправду дохнут?
— Должны… — ответил Василий Петрович и почувствовал, что ему неловко перед Воробьевым за свою неуверенность и страшновато приступать к опытам. Ругнув себя в душе за малодушие, Талаев стал объяснять лесничему, как и почему, по его мнению, гусеницы шелкопряда погибнут.
— И опыт уже ставили? Или только пробовать будете? — испытующе глядя на Талаева, спросил Воробьев.
— В лаборатории дохнут, как одна. — А вот в тайге — нет.
— Вон оно что!
— Они должны подохнуть. Просчет где-то есть.
— Что ж, посмотрим. Провожу я вас на Хаяшкину гриву. Завтра и пойдем по холодку. Чего же для такого дела вам самолет не дали?
— В прошлом году давали…
— Ясно…
Василий Петрович промолчал. Хотелось ответить резкостью на прозрачное «ясно». Но Талаев сдержался, только лохматые брови его насупились да резче залегли складки в углах рта.
— В жизни-то как только не бывает, — вздохнув, продолжил разговор Воробьев. — Поднялся раз на меня «хозяин». Повыше вас раза в полтора. Идет тучей. А у меня карабин, что ни дерну за курок — то осечка. Тот лапы протянул, небо застил. Ну, решил уж отходную читать. А сам еще раз попробовал. Передернул затвор, стволом «хозяину» под нижнюю челюсть и — бабах! Выстрелил-таки, сукин сын! Да, а я уж не чаял свету белого увидеть. А мирская молва — что морская волна. Тут выстоять надо, лишь бы с ног не сбила. Коль не сшибла, то на своей же спине и вынесет.
— Спасибо, Воробьев, на добром слове, — сказал Талаев.
— Вам слово в костыли негоже — сами стоите крепко.
В тайгу вышли на зорьке. И снова звенел дождевой шум пирующего шелкопряда.
Талаев достал ракетницу, зарядил и выстрелил. Легкое светлое облачко повисло над кроной кедра. Растаяло.
Снова выстрел. Исчезающее облачко над вершиной. И тишина.
Воробьев долго стоял под первым деревом, словно ожидая, что вот сейчас оттуда посыплются дохлые гусеницы. Не дождался. Вздохнул. Двинулся за Талаевым.
Молчали весь день.
— И когда же мор начнется, Василий Петрович?
— Через неделю. Если начнется…
— Дай-то бог!
Подсадили шелкопряда в кедровый молодняк — наблюдать за ним так было легче.
…Вернувшись вечером с обхода, Талаев увидел глыбистую фигуру Воробьева у черных островов молодых кедров. Василий Петрович хотел пройти мимо, он плоховато себя чувствовал: ломило плечо, а под лопаткой боль сидела, словно тупой гвоздь. Еще в середине дня он принял валидол. Но Талаев не смог пройти мимо скорбно ссутулившегося лесника.
— Погибли, — вздохнул Воробьев, покосившись через плечо на подошедшего Талаева. — Пять кедров погибло.
— Да.
— И много еще?
— Не знаю.
— Что ж, лишь бы польза была.
Талаев промолчал. Он повернулся и пошел к палатке.
Ночью снились кошмары. Однако утром он снова ушел в тайгу. Проходя от распадка к распадку, Талаев старался щадить себя, следил, чтоб не сбивалось дыхание. Но к вечеру он снова очень устал, а встреча с лесником взволновала и огорчила его.
Гусеницы объели еще четыре кедра.
Воробьев встретил Василия Петровича вопросом:
— Когда ж эти твари дохнуть начнут?
— Должны скоро…
Шли недели, и черных скелетов кедра становилось все больше.
Лесник мрачно молчал. Однажды Талаев ушел без завтрака. Воробьев, заботившийся о еде, то ли спал, то ли притворялся спящим.
Василий Петрович весь день бродил по вековым кедровым лесам. Снова, как тогда, во время охотничьей поездки с Болдыревым, перед ним, застилая дальние деревья, маячила косая завеса солнечных лучей, скрывавшая кедровую корабельную чащу, цокали и уркали белки, и словно через канавы перешагивал он через глубоко пробитые звериные тропы.
…Мрачный лесник сидел у костра и, лишь краем глаза посмотрев на Талаева, сказал:
— Уйду я от вас, товарищ Талаев. Завтра вот и уйду. Не терпит больше моя душа.
— Сколько кедров погибло?
— Двадцать три.
— И еще полсотни погибнет.
Лесник махнул рукой:
— Эх, наука!
И ушел. Талаев остался один. Раз в неделю появлялся Воробьев. Вздыхал и уходил. Лето прошло. Мор не начался.
Гусеницы, разжиревшие, огромные, в палец толщиной, похожие на драконов-малюток, не желали гибнуть. Они сопротивлялись. Отчаянно и успешно.
Беды прибредают чередой. А может быть, одна является в какой-то степени следствием другой. Следствием, которое не всегда можно проследить или понять.
Тяжело заболела Анна Михайловна — рак. Умирала она трудно.
На похороны приехали сыновья. Дорогие, близкие и очень далекие от того, что составляло жизнь отца. Василий Петрович, пожалуй только увидевшись с детьми, понял, каким он остался одиноким. У них все было свое: жизнь, взгляды, отношение к людям. Лишь воспоминание о том, что Саша маленьким не любил морковь в супе, а Петя — сластена и в детстве у него часто болели зубы, лишь прошлые тревоги и заботы связывали Василия Петровича с крупными — в него — мужчинами, носившими его фамилию.