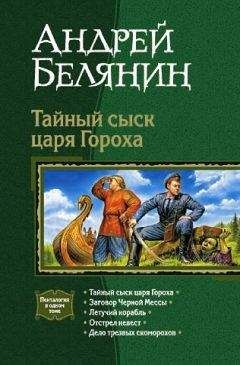от ног любимого, с нетерпением ждут каждой мимолетной или наоборот, страстной и сводящей с ума ласки или объятия. И горделиво, с наслаждением говорят: «Ты – моё!».
А потом все резко меняется, и между ними ложится грязная, низкая, полная дрязг и мелких разборок вражда. И они с презрением говорят: «Моя бывшая (бывший)». Люди, недавно делившие одно ложе и целовавшие друг друга куда ни попадя, становятся смертными врагами, ненавидящими друг друга, готовыми вцепиться друг другу в глотки за оспариваемое общее имущество в виде китайской пластиковой посуды. Они делят детей, которым их страсть дала жизнь, и истерично кричат своим чадам: «Люби только меня, потому, что твой папа (твоя мама) – завалящий кусок дерьма! Называй папой (мамой) вот этого чужого дядю (тётю), потому, что я знаю, что для тебя лучше…». И ребенок смотрит огромными наивными глазами, и как бы спрашивает: «Папа (мама), но если моя мама (папа) – тупая стерва (дерьмовый козел), то почему ты тогда признавался ей (ему) в любви, почему ты целовал и обнимал её (его)? Почему я родился от этого зловонного зоопарка, как ты говоришь? Как ты это допустил (допустила)? И если ты говоришь, что любишь меня, то может и я тоже тупая стерва или дерьмовый козел? Ведь судя по твоим рассказам, ты у меня извращенец (извращенка) и имеешь слабость к тупым стервам и дерьмовым козлам…».
И тогда я спрашиваю себя: а была ли любовь, о которой столько кричали? Бог смотрит на все происходящее глазами отца и глазами ребенка: и какую любовь Он видит между людьми? Видит весь этот поток мерзости.
Вся наша культура буквально напитана страстью, несчастную любовь воспели и воспевают (и будут воспевать) как авторы шедевров, так и производители песен-однодневок. Её подают в красивой коробочке с золотистыми ленточками, и многие, отведав ее ядовитой сладости, погибают, выбирая способ самоубийства в зависимости от личных предпочтений: от бросания под идущий поезд до медленной смерти от избыточного количества калорий. Как красиво!
Но что это за любовь? И любовь ли это?
Я сижу на остывающем мелком песке, сквозь полуопущенные веки проникает холодный лунный свет (кстати, Луна здесь действительно необычная, громадная, яркая и какая-то «металлическая»). Я всего час назад вернулся с войны (как глупо звучит), и через два дня опять поеду по ее дорогам. И сейчас зачем-то пытаюсь понять, что же такое любовь… Странно… Даже немного смешно. Зачем я сейчас думаю об этом?
В каждом из нас живет дух мятежного ангела, который искусил наших прародителей.
Ведь вкратце, что написано в Торе, Библии и Коране об истоках происходящего?
Когда Всевышний сотворил человека по образу своему и подобию, то человек имел душу ангела и бессмертную, постоянно возрождающуюся плоть. Был у Всевышнего так же любимый светоносный ангел, даже именовался он – «Светоносный». Кто помнит греческий? Как на этом языке будет звучать «Светоносный»? То-то же. Звучать оно будет довольно необычно для нас, потому как это имя, Люцифер, со светом мы никак уже не связываем, можно сказать, вовсе даже наоборот. В Коране его называют Иблисом. Мы привыкли звать Сатаной, лукавым.
Когда этот ангел увидел, что новому и любимому детищу Бога дано и от Духа, и от плоти, то он внутренне соблазнился и поднял мятеж. Это была гордыня и ревность. Та самая гордыня и ревность, то же самое исступленное стремление единолично обладать чье-то благостью, которую мы вкладываем в наше понимание земной любви, земной страсти. Гордыня и ревность, смешанные с чувством собственничества, всепоглощающая страсть, готовая убивать, а не созидать. Это была страсть, перерождающаяся в мерзость вражды точно так же, как то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они порывают друг с другом и становятся врагами. Или ревность любимого ребенка, с которого родители переключили внимание на младших братьев, и готового в своей исступленной жажде былой любви уничтожить и младших братьев, и отомстить со всей злобой неудовлетворенного сердца некогда любимым родителям.
И так Свет обратился во Тьму. И началось то, что мы знаем.
Что же сделал человек, Адам? Он не просто съел яблоко посреди сада. Это всего лишь символ искушения, не более. И вовсе не просто вступил в половые сношения с Евой, как думают некоторые эротоманы. Если внимательно почитать, последнее никто не запрещал.
Вопрос был куда проще, и куда серьезнее. Это был вопрос стороны, на которой он будет после мятежа, это был вопрос власти. И человек выбрал сторону Сатаны. Выбрал ревнующую, исступленную, порождающую вражду и реки крови страсть, а не настоящую, полноценную любовь, и разрывая себя в невозможности утолить истинную жажду, идет все на новые и новые преступления ради эфемерных попыток построения рая на землях изгнания своего.
Развратить же человека, показать его во всей его мерзости и потом уничтожить – для Иблиса нет ничего желаннее. Ведь так он как бы бесконечно и бесплодно доказывает Богу: «Ну посмотри на это! Посмотри, на кого ты меня променял!».
Я не знаю, откуда передо мной тогда возникали эти диковинные картины. Безмолвие ночной пустыни, пережитый страх, постепенно отпускавший меня – кто знает, что это порождало.
Люблю ли я до сих пор ту девушку, с которой мы расстались? Да. И там, в пустыне, я мог сказать это уверенно еще раз. После разрыва романтических отношений во мне тоже бушевал мятежный ангел. Он так же, как и с миллионами других, разжигал во мне вражду к предмету моей страсти, разжигал ревнующую злобу, и говорил: «Ты ненавидишь ее… Посмотри, как она тебя обидела, как она тебя унизила… Мужик ты или не мужик… Ну хоть скажи, какая она конченая тварь. Ну не другим, так хотя бы себе скажи…никто ведь не узнает». Но было и нечто другое, что жило во мне и сопротивлялось этому. И это другое как бы говорило: «Если я любил ее, если моим счастьем было вдыхать неповторимый нежный запах ее волос, пусть и столь недолго, если я готов был ради нее пожертвовать всем – как же я буду хулить и хаять, злобствовать и ненавидеть? Если я клялся в любви, то как буду вставать на путь вражды? И что же эта за любовь, если она не прощает обид? Что изменилось, кроме того, что она теперь не принадлежит мне? Да и может ли кто-либо кому-либо принадлежать? Разве она – вещь? Разве чудо ее существа, которым я восторгался – безделушка, которую можно спрятать в кармане?».
В то время более всего я боялся напиться, и в