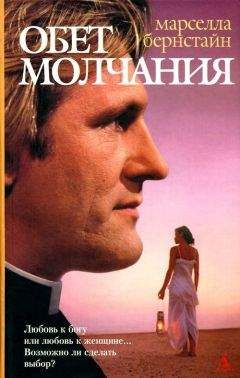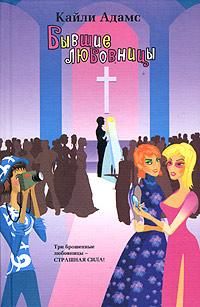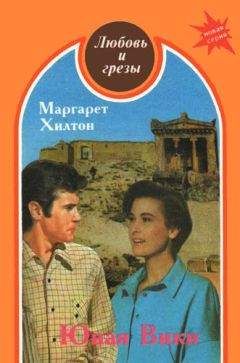— Кое-что он мне рассказал, и было бы глупо скрытничать, раз уж ты и так много знаешь. Но, видишь ли, это довольно длинная история, и до отхода твоего поезда не хватит времени даже подступиться к ней. Кстати, есть более простой способ. Вообще говоря, я не любитель разглашать секреты моего малопочтенного ремесла, но должен признаться, что чем больше я размышлял над историей Конвея, тем сильнее она меня интриговала. После наших разговоров на пароходе я начал делать кое-какие записи, чтобы не позабыть подробности; потом отдельные моменты начали увлекать меня все больше, и захотелось объединить написанное и сохранившиеся в памяти отрывки в связное целое. Хочу заметить, что я ничего не придумал и не изменил. Материала мне вполне хватило — Конвей был прирожденным рассказчиком и умел отлично воспроизвести атмосферу происходящего. И, кроме того, я почувствовал, что начинаю постигать этого человека.
Резерфорд открыл атташе-кейс и вынул из него стопку машинописных страниц.
— Вот, возьми, решай сам, что об этом думать.
— Ты хочешь сказать, что вовсе не обязательно верить тому, что здесь написано?
— Ну зачем же так в лоб. А если все-таки поверишь, то по той самой причине, которую блестяще сформулировал Тертуллиан, помнишь? — Quia impossible est[6]. Неплохой довод. В любом случае, дай мне знать о своем мнении.
Я забрал рукопись и прочел ее в остендском экспрессе почти до конца. По возвращении в Англию я намеревался вернуть эти заметки вместе с подробным письмом, но все откладывал, и прежде чем добрался до почты, от Резерфорда пришла весточка: он извещал, что снова отправился странствовать и несколько месяцев постоянного адреса у него не будет. «Собираюсь в Кашмир, — писал он, — а оттуда на восток». Меня это не удивило.
В середине мая обстановка в Баскуле значительно ухудшилась, и двадцатого числа из Пешавара, как было условлено, прибыли самолеты ВВС, чтобы эвакуировать белых резидентов. Таковых насчитывалось около восьмидесяти, и большинство из них были благополучно переправлены через горы на военно-транспортных аэропланах. Пригодились и несколько частных машин и в их числе личный самолет махараджи Чандопора. На борт этого самолета в десять часов утра поднялись мисс Бринклоу, монахиня Восточной миссии, Генри Д. Барнард, американец, Хью Конвей, консул Его Величества, и капитан Чарлз Маллинсон, вице-консул. В таком порядке их фамилии появились впоследствии в английских и индийских газетах.
Конвею исполнилось тридцать семь лет, он служил в Баскуле уже два года на должности, которая в свете происходящих событий казалась заведомо бесперспективной. В его жизни завершился определенный этап — через несколько недель, а может быть, после одного-двух месяцев отпуска в Англии ему предстоял перевод на новое место. В Токио, Тегеран, Манилу или Мускат — люди его профессии никогда не знают своего будущего. Конвей достаточно долго — десять лет — состоял на консульской службе и трезво оценивал не только чужие, но и свои шансы. Он знал, на лакомое местечко рассчитывать не приходится, и искренне утешал себя мыслью, что лакомства — не его слабость. Ему больше нравились экзотические места, где было меньше протокольной рутины, а поскольку очень часто они бывали незавидными, со стороны казалось, что он не очень-то умело разыгрывает свои козыри. Сам Конвей считал, что разыгрывает их неплохо; последние десять лет его жизни были не слишком однообразными и даже в меру приятными.
Высокий и загорелый голубоглазый шатен с короткой стрижкой, обычно он выглядел задумчивым и суровым. Но стоило Конвею улыбнуться (правда, это случалось нечасто), как в нем проглядывали мальчишечьи черты. Мускул возле уголка левого глаза сводил нервный тик, особенно заметный, когда он слишком много работал или выпивал лишнего, а поскольку весь день и всю ночь накануне эвакуации Конвей уничтожал и упаковывал документы, эти подергивания бросались в глаза. Он был измотан до предела и страшно обрадовался, что лететь придется не на битком набитом транспортном самолете, а на шикарной персональной машине махараджи. Как только она набрала высоту, Конвей с наслаждением вытянулся в плетеном кресле. Привыкший ко многим неудобствам, он считал, что в порядке компенсации имеет право на некоторый комфорт. Он мог с улыбкой перенести все тяготы путешествия в Самарканд, но не жалел последнего пенни за поездку в Париж на экспрессе «Золотая стрела».
Через час с лишним после взлета сидевший спереди Маллинсон обратил внимание, что пилот отклонился от курса.
Молодой человек лет двадцати пяти, с румянцем на щеках, толковый, но отнюдь не интеллектуал, Маллинсон был типичным продуктом английской школьной системы со всеми ее достоинствами и недостатками. В Баскул Маллинсон попал полгода назад, после того как провалил квалификационный экзамен, и Конвей успел за это время привязаться к нему.
Однако сейчас Конвей не испытывал никакого желания поддерживать разговор. Он с трудом разомкнул слипающиеся глаза и пробормотал, что пилоту виднее, каким курсом следовать.
Прошло еще полчаса, усталость и рокот мотора почти совсем сморили Конвея, но тут Маллинсон снова потревожил его.
— Послушайте, Конвей, разве не Феннер везет нас?
— А в чем дело?
— Этот малый оглянулся — я готов поклясться, что это не Феннер.
— Перегородка из толстого стекла, можно легко обознаться.
— Феннера я узнал бы сразу.
— Ну не он, так кто-то другой, какая разница?
— Феннер говорил мне, что обязательно полетит.
— Значит, назначили кого-то другого.
— Да, но кого?
— Дорогой мой, что я могу сказать? Неужели вы думаете, что я знаю в лицо каждого лейтенанта военно-воздушных сил?
— Я со многими знаком, но этого совершенно не припоминаю.
— Значит, он один из тех, с кем вы не знакомы. Вот прилетим в Пешавар, там и познакомитесь.
— С таким летчиком мы в Пешавар никогда не попадем. Парень явно сбился с курса. Забрался черт знает на какую высоту и потерял ориентировку.
Конвея это мало волновало. Он привык летать и полагал, что все идет как надо. Кроме того, особенно приятных дел и встреч в Пешаваре не ожидалось. По этой причине не имело значения, продлится полет четыре часа или шесть. Конвей был холост, объятия и поцелуи по прибытии не предвиделись. Правда, имелись друзья, и, наверное, кто-то потащит его в клуб и поставит выпивку. Перспектива приятная, но не повод для радостных вздохов.
Не видел он повода для них и подводя в общем-то неплохие, хотя и не вполне удовлетворявшие его итоги десяти прожитых лет. «Переменная облачность, временами ясно, ожидается ухудшение погоды» — такова была, выражаясь языком синоптиков, его личная да и мировая метеосводка за этот период. Конвей припомнил Баскул, Пекин, Макао — места обитания приходилось менять часто. Самое давнее воспоминание — Оксфорд. После войны он два года читал там лекции по истории Востока, вдыхал книжную пыль в светлых библиотечных залах, кружил на велосипеде по Хай-стрит. Видение поманило, но не взволновало: Конвей по-прежнему смутно ощущал в себе запас нереализованных сил.