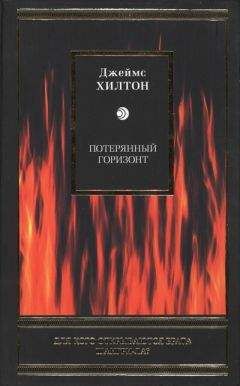Конечно, и доктор, и мать-настоятельница пришли в крайнее возбуждение. Я сказал им, что знаю этого человека, он англичанин и мой личный друг, а если не узнает меня, то не иначе как потому, что совершенно лишился памяти. Они согласились, и мы занялись долгим обсуждением этого поразительного случая. И у них не находилось никаких приемлемых догадок о том, каким образом Конвэй мог попасть в Синьян в подобном состоянии.
Короче, я провел там еще пару недель в надежде как-нибудь пробудить его память. Ничего не вышло. Физически он выздоравливал, и мы много говорили. Когда я, например, объяснял, кто он такой и кто я, он покорно соглашался, не возражал. Настроение у него было хорошее, даже радостное, и мое общество, судя по всему, доставляло ему удовольствие. На мое предложение увезти его домой он просто ответил, что не имеет ничего против. Смущало именно отсутствие определенных желаний.
Ну, я взялся за устройство нашего отъезда. Договорился с одним консульским чиновником в Ханькоу, тот помог насчет паспорта и всего прочего, что обычно превращается в утомительные заботы. К тому же я считал, что в интересах Конвэя избежать огласки, скрыть всю эту историю от прессы. И рад сказать, что это удалось. Для газетчиков, понятное дело, тут был бы лакомый кусочек.
Н-да. Из Китая мы выбрались самым естественным образом. По Янцзы спустились до Нанкина, потом поездом в Шанхай. Там как раз отчаливал японский лайнер, направлявшийся в Сан-Франциско. Пришлось здорово поспешить, но успели.
— Слушай, ты очень много для него сделал, — заметил я.
Разерфорд не возражал.
— Не думаю, что я стал бы так же выкладываться ради кого другого, — сказал он. — Но в этом человеке есть что-то такое, да и всегда было, не объяснишь, — ну, в общем, хочется для него сделать все, что можешь.
— Да, — согласился я. — Он обладал каким-то особым очарованием. Настолько привлекательный человек, что одно воспоминание о нем доставляет удовольствие. Хотя, конечно, в моей памяти он остается школьником в спортивном костюме. Сейчас побежит играть в крикет.
— Жаль, ты не знал его в Оксфорде. Там это был блестящий парень — других слов не подберешь. Ходили разговоры, что после войны он изменился. Я тоже так думаю. Но не могу поверить, чтобы при его способностях он оказался в стороне от великих дел. А Конвэй был создан именно для великого. Мы же оба его знали, и согласись, я не преувеличиваю, когда говорю, что он оставляет неизгладимое впечатление. Даже во время этой китайской встречи, при том что память его была пуста и прожитые им годы покрылись мраком тайны, он сохранил в себе все ту же притягательную силу. — Разерфорд задумчиво помолчал, потом продолжил: — Как ты догадываешься, на корабле мы заново стали друзьями. Я пересказал ему все известное мне о его прошлом. Он слушал с таким вниманием, что это выглядело нелепо. Он ясно помнил каждую мелочь после своего появления в Синьяне. И заметь — это должно представлять для тебя профессиональный интерес, — он не забыл язык, вернее, языки. Он сообщил мне, например, что в его жизни была, вероятно, какая-то связь с Индией, поскольку он мог говорить на хиндустани.
В Йокогаме лайнер заполнился пассажирами, и среди них оказался Сивекинг[8], пианист, направлявшийся на гастроли в Штаты. Ему определили место за нашим столом, и время от времени они с Конвэем заводили разговор по-немецки. Можешь отсюда заключить, что внешне он выглядел здоровым, нормальным человеком. Он был в полном порядке, если не считать некоторых пробелов в памяти, которые никак не обнаруживались в повседневном общении с окружающими.
Наше плавание продолжалось уже несколько суток, когда как-то вечером удалось уговорить Сивекинга угостить пассажиров фортепианным концертом, и мы с Конвэем пошли послушать. Играл он, конечно, хорошо — Брамс, Скарлатти и много-много Шопена. Глянув разок-другой на Конвэя, я заключил, что он наслаждается игрой, и это показалось мне вполне естественным ввиду его собственного музыкального прошлого.
По завершении намеченной программы Сивекинг играл еще и еще для окруживших его особо горячих поклонников музыки. Все они, как мне показалось, высоко оценивали мастерство исполнителя. Снова звучал Шопен, любимый его композитор. Наконец он встал и направился к двери, уверенный, что достаточно потрудился для слушателей, очарованных его игрой. И тут случилось нечто неожиданное. Конвэй сел за фортепиано и исполнил в быстром темпе очень милую, неизвестную мне пьеску. Сивекинг обернулся и, волнуясь, стал допытываться, что это такое. После долгого и довольно неловкого молчания Конвэй сознался, что он не знает. Сивекинг закричал, что такого не может быть, и разволновался еще больше. Конвэй старался вспомнить. Видно было, какого огромного физического и умственного напряжения это стоит ему. Наконец он заявил, что играл этюд Шопена.
Мне самому показалось это ошибкой, и потому я не удивился, когда Сивекинг стал решительно возражать. Но Конвэй вдруг рассердился, и всерьез, чем совсем потряс меня, поскольку до этого он вообще не склонен был проявлять каких-либо эмоций. «Мой дорогой друг, — назидательно сказал Сивекинг, — я знаю всего Шопена и уверяю вас, что не он автор сыгранного вами этюда. Правда, мог бы быть его автором, поскольку это вполне в его стиле, но вот не писал он такого — и все тут. Бьюсь об заклад, этой вещи нет ни в одном издании его сочинений». В ответ Конвэй заявил следующее: «Да-да, теперь я припоминаю: этюд никогда не публиковался. Меня с ним познакомил человек, бывший учеником Шопена… И вот еще одна вещь, которую я от него узнал. Тоже не публиковалась».
Продолжая, Разерфорд внимательно следил за выражением моего лица.
— Не знаю, какой из тебя музыкант, но даже если никакой, все равно ты, наверное, сможешь хотя бы частично представить себе волнение, охватившее Сивекинга и меня самого, когда Конвэй опять заиграл. Для меня, конечно, это был неожиданный прорыв в его недавнее прошлое, первый ключ к тайне. Сивекинга занимала, естественно, чисто музыкальная загадка, довольно-таки сложная, с чем ты тотчас же согласишься, если я тебе напомню, что Шопен умер в 1849 году.
Все это в известном смысле выходит за пределы постижимого. Поэтому нелишне будет добавить, что там присутствовало не меньше дюжины свидетелей, включая и авторитетного профессора из Калифорнийского университета. Конечно, легко было сказать, что объяснения Конвэя несостоятельны с хронологической точки зрения или почти несостоятельны, но как быть с самой музыкой? Ну, пусть объяснения Конвэя неправда, все равно ведь остается вопрос: а что это за музыка? Сивекинг утверждал: будь эти два этюда опубликованы, они в течение полугода непременно вошли бы в репертуар каждого способного исполнителя. Может, и преувеличивал, но именно так высоко оценивал он эти композиции. Сколько мы тогда ни спорили — ничего не решили. Конвэй стоял на своем.