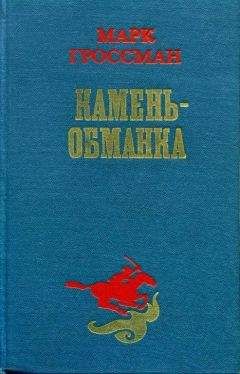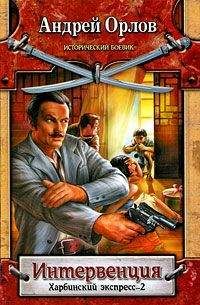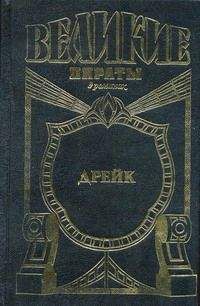Немного остыв, адмирал вытер лоб платком, поджег папиросу, сказал хриплым, прерывающимся голосом, смахивающим на рыдания:
— Я приказываю вам! Или вы займете пост военмина, или я расстреляю вас!
Будберг иронически поглядел на Колчака:
— В таком случае, я должен подумать, Александр Васильевич.
— Никаких «подумать»! — закричал Колчак, и его рука с кортиком снова задергалась над подлокотником кресла. — Тотчас принимайте дела.
— Хорошо, — чуть склонил голову старик. — Но вы должны запомнить, что я соглашаюсь под угрозой смерти. Впрочем, мне и так осталось недолго жить, господин адмирал.
Колчак махнул рукой, отпуская Будберга. Однако в последнюю секунду внезапно сказал:
— Идите, но я еще подумаю, стоит ли вам доверять этот пост.
Все последующие дни Будберг без злобы, скорее сострадая, думал о Колчаке. Беспомощный политик, неуравновешенный и раздражительный человек, верховный правитель производил жалкое впечатление. Он часто ошибался и, не желая видеть неприятных ему людей, непрерывно ездил на фронт. Когда ему докладывали тяжелую, горькую правду, правитель кричал, не умея сдержать себя, грозил, требовал немедля принять неведомые меры, сникал и съеживался, жалуясь на отсутствие дельных людей и честных помощников. И тут же, закипая, сулил расстрелять всех подряд. Он ничего не понимал в сухопутном деле, во всяком случае, не более Лебедева и Сахарова, и, не умея быть искренним, продолжал вести недостойную трагическую игру.
Будберг в эти дни работал день и ночь, стараясь составить себе точную картину положения в армиях и хоть как-то повлиять на ход операций. Увы! Это была непосильная задача даже для него, отменно знавшего функции штабов. Бахвальство, путаница, разнобой в донесениях, желание свалить вину на других, непреднамеренная и умышленная ложь — все это до такой степени уродовало и погребало истину, что барон иногда приходил в ужас.
Единственное, что не вызвало сомнения — непрерывное продвижение красных. Они шли, эти большевистские войска, потрясая противника упорством, терпением, самоотверженностью, ломая хребет дивизиям Колчака без остановки и пощады. Положение многократно ухудшали массовые восстания в тылу.
Заведующий оперативными сводками ежедневно наносил на огромную карту, висящую в кабинете Будберга, красные точки — пункты народных волнений и мятежей. Эта сыпь делалась все гуще и гуще, покрывая собой Урал, Сибирь, Дальний Восток. Обстановка накалялась. Впрочем, это началось не сегодня и не вчера. Еще в начале июня девятнадцатого года по городу поползли настойчивые слухи, пугающие своим правдоподобием: Гайда послал из Перми премьеру Совмина Вологодскому, в обход верховного, ультимативную телеграмму. Чех требовал убрать наштаверха Лебедева — «преступника, намеренно мешающего моим действиям и разрушающего фронт». Он также предлагал передать всю оперативную власть одному из его приближенных — генералу Богословскому, и на крайний случай милостиво соглашался сам возглавить фронт.
Колчаку доложили об ультиматуме Гайды. После истерики, вызванной этой наглой бумажкой, адмирал вызвал к себе Будберга и предложил вместе отправиться в Пермь: может быть, удастся потушить скандал.
— Увольте, ваше высокопревосходительство, — скривился барон. — У меня от одного вида этого прохвоста начинается тик. И я не гожусь на роль уговаривающего. Вы знаете это.
Колчак уехал в Пермь без барона. Уже хорошо зная Гайду, он взял в поездку свой конвой и прихватил еще в Екатеринбурге пехотный батальон.
Разговор с чехом в штабе армии сильно смахивал на перебранку баб — крик, взаимные упреки, угрозы, оскорбления.
Гайда, наградивший когда-то Колчака Георгием третьей степени за победный зимний поход и взятие Перми, теперь кричал в лицо верховному:
— Господин адмирал! Управлять кораблем и управлять Россией — две огромные разницы. Вот именно, господин адмирал!
Колчак в эти минуты смог взять себя в руки, внешне успокоился, сказал ледяным тоном:
— Я отрешаю вас от должности, генерал. Сдайте дела Богословскому.
И, не простившись, уехал в Омск.
Но уже через сутки там же появился Гайда и, как ни в чем не бывало, отправился на аудиенцию к Колчаку. До штаба чеха сопровождал его пресловутый конвой — триста пятьдесят шесть обалдевших от безделья казаков, впрочем, готовых ради своего генерала пуститься во вся тяжкая.
Колчаку было трудно разговаривать с Гайдой ровным тоном, но адмирал сделал вид, что принял объяснения чеха за извинение и вполне удовлетворен. Он отпустил эксфельдшера в Пермь, на прежнюю должность, ругая себя за бесхарактерность и слабость духа. Впрочем, адмирал всегда помнил, что нью-йоркская «Народная газета» в свое время напечатала интервью с Гайдой. Эксфельдшер заявил: «Я сочувствую избранию в диктаторы именно Колчака».
…Заключенный устал лежать на жесткой тюремной койке. Застарелый ревматизм, приобретенный на Севере, то и дело давал себя знать. И все-таки адмирал валялся в кровати: надо было сохранить силы, заставить себя отоспаться, чтобы не проиграть, во всяком случае, глупо не проиграть свой последний бой — схватку с Чрезвычайной комиссией.
Но сон не шел, а черные мысли скопом лезли в голову. Тогда он подумал, что следует не огорчаться этому, а благодарить воспоминания, ибо они — хоть какое-то подобие деятельности, предохраняющей от безумия.
Память немедля подсунула ему глупую и печальную картину: его речь двадцать второго августа девятнадцатого года. Он приехал тогда на позиции ижевцев вместе с Будбергом и добрых полчаса жевал с трибуны слова о том, что он такой же солдат, как и все остальные, и что лично для себя ничего не ищет, а желает лишь процветания России и победы над большевиками. Солдаты уныло смотрели на адмирала, пропускали, как он явственно видел, глухие, тусклые фразы мимо слуха. Даже офицеры не всё понимали в этой мудреной книжной речи, и Будберг морщил лицо, видя, что адмирал мнется и совершенно не умеет произвести впечатление на слушателей.
Тогда Колчак резко оборвал речь, стал раздавать подарки и ордена, но все равно чувствовал, что между ним и людьми — стена.
По дороге в ставку спросил Будберга:
— Скажите, барон, я говорил не то, что следует?
Кандидат в министры отозвался, пожимая узкими плечами:
— Мне кажется, ваше высокопревосходительство, солдаты слабо догадываются о целях, из-за которых мы ведем бой. Вы полагаете, это не так?
И хотя в словах старикашки явно звучала издевка, Колчак поверил в их правоту.
Вернувшись в Омск, он сочинил приказ — увы! — кажется, совершенно дурацкий приказ: «Ко мне поступают сведения, что во многих частях до настоящего времени остаются неизвестными цели и задачи, во имя которых я веду и буду вести с большевиками войну до полной победы…»