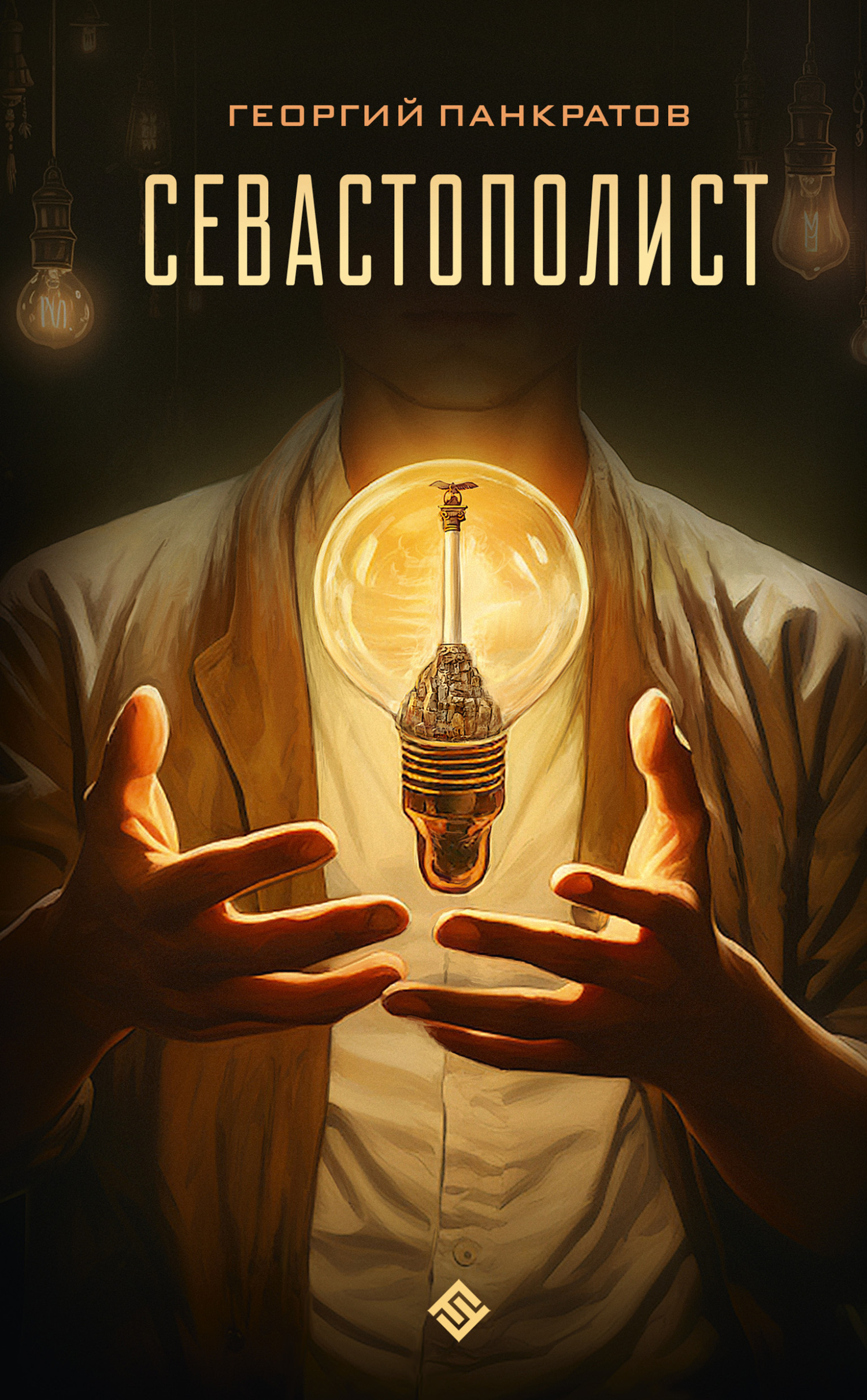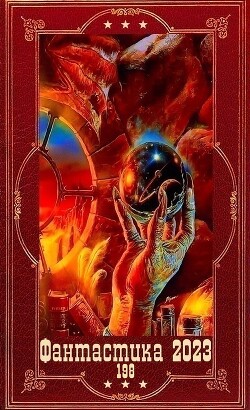одинаковые, конечно, но столь похожие жизни.
Закрытый город… Я задумался об этом слишком поздно. И вот теперь – мой город закрыт для меня.
В одну из последних наших поездок перед тем, как привычная жизнь вдруг стала совсем другой… Да что там в одну из последних – в последнюю: я же ведь помню, это с нее началось все. Нам захотелось простора, и мы укатили на север. В тех краях уже не было города – хотя это все же был он; там росли низкие сухие растения с выцветшими цветками и колючками: им не хватало влаги. Порой мы чувствовали себя на улицах Севастополя, в собственных дворах, погруженные в привычные свои будни, так же, как эти кусты. За ними никто не следил, они росли дико и – вот парадокс! – могли бы на этих полях разрастись, захватить их, окрепнуть, устроив здесь свое царство, но вместо этого лишь вяло колыхались над землей унылыми стебельками. Словно бы они могли расти, но отчего-то не хотели.
Тогда я удержался от того, чтобы сравнить нас с этими кустами: в компании не очень-то любили эти шутки, и, едва я заикался о кустах или кивал в их сторону, все начинали кричать, шуметь, шутить, затыкать мне рот – в общем, отвлекать. Я ухмылялся, глядя в зеркало на пустую дорогу, что раскатывалась за нашей яркой машиной пыльным, будто плохо выбитым усталыми горожанами ковром. «Ладно, ладно, не буду», – примирительно говорил я. И мы переводили взгляд туда, куда его только и можно было перевести в пустом бескрайнем поле (наши родные двухэтажки оставались далеко позади), кроме неба, конечно, – но чего ждать от неба, каких чудес? Над городом висело точно такое же небо, как здесь, так пусть на него смотрят в городе. А мы смотрели на Башню.
Мы не подъезжали к ней в тот раз – вообще, это было бессмысленным. Окруженная высоким, с несколько маяков, забором, не имевшим не то что ворот, даже щелей и трещин, она представляла мало интереса вблизи. Зато с Широкоморского шоссе ее вид был… нет, не сказать завораживающим, не сказать поражавшим воображение… Башня просто была, каждый из нас помнил ее, сколько помнил себя – тут нечего было воображать. Ее вид с Широкоморского шоссе был таким, что ты неизменно думал: собственно, все уже в жизни увидено, прожито и прочувствовано, и лишь одно оставалось загадкой, которая будоражила ум.
Эта Башня – Севастополь или нет?
Весь мой город лежал под ней, простирался, словно поверженный противник, и она стояла, торжествующая, источала мощь, распространяла, словно антенна, свою тайну, в город, передавала ее в каждый дом, каждую голову. Кто построил тебя, Башня? Разве могли тебя даже не возвести, а просто задумать тихие люди наши, разве мог породить тебя добрый, спокойный и неподвижный наш город, не желавший расти ввысь?
Я сбавил скорость. Все наши разговоры смолкли, и я переглянулся с Фе, очаровательной моей подругой. Ее волосы развевались, а в зеркальных очках отражалась степь. И Башня… Девушка ехала со мной на переднем сиденье, и, признаться, мало что мне приносило когда-нибудь больше счастья. На заднем сиденье сидели наши друзья, они смеялись, глядя на нас, шутили, кричали, но я не слышал. В голове бились волны – и тогда казалось, что это прилив сил, радостный трепет совсем молодой души от вспыхнувшего в ней первого настоящего чувства. Но уже тогда я понимал: мое волнение отнюдь не только об этом. Глядя на прекрасную Феодосию, я хотел встретиться с ней взглядом, но видел лишь Башню в ее очках. Башня заслоняла мне все, Башни становилось все больше в моей жизни. И прежде всего, конечно, в голове. Волны тревоги бились о то, что прежде казалось неприступной скалой – мою беззаботность, уверенность. Неужто молодость уходила, неужто это и была та самая «жильца», которой наделял всех тех, кто молод, но уже и не совсем, наш мудрый наблюдательный народ? Новый прилив – сильный, внезапный – злости, испуга нахлынул на мою крепость, и я резко затормозил и нервно надавил на клаксон автомобиля. Раздался писклявый звук, словно суровый ребенок сжал в крепких руках плаксивую резиновую игрушку.
– Фи? – спросила Феодосия, приспустив очки. – Все в порядке?
– Слушай, – я перевел дух. – Сними их уже. Тебе же без них гораздо лучше…
– Лучше? – Она изобразила удивление. – Ты хочешь сказать, тебе так больше нравится?
Фе дотронулась до моей щеки, и этот простой жест словно обжег меня. Как будто почувствовав это, она отдернула руку.
– Мне так больше нравится, – буркнул я.
Она усмехнулась.
– Ну ты не один ведь здесь, верно? А как же твои друзья, Инкер?
Зачем она это делает? Дразнит меня? Или его – моего несчастного друга? Все мы знаем, как нравится Фе ему, и все – даже он, нет, он в первую очередь – знают, что у него нет никаких шансов.
– О да, детка, ты прекрасна! – Евпатория томно посмотрела на нее и облизнулась.
– Уйди, противная, – отмахнулась Фе. Она ревновала Евпаторию ко мне, хотя какой смысл? Я был еще без «жильцы», по крайней мере, хотел так думать, был чист и верен своей любви. Ну, или тому чувству, которое хотелось считать любовью. Ведь наша компания была такой маленькой – а как же хотелось большой любви!
– А что, – улыбнулся Инкер. – Все классно, мне все нравится. Фи, зря ты наговариваешь! Они ей очень идут.
Сделав этот комплимент, друг просиял. И Феодосия предсказуемо потеряла к нему интерес.
– Вот видишь. – Она дернула меня за руку. – Всем нравится. И почему тебя не прут мои очки?
– Башню видно, – бросил я, открывая дверь. – Выходим, ребят, прогуляемся… И потом – почему всем? Керчь, хотя бы ты скажи ей!
– А? – встрепенулась, словно только что спала глубоким сном, девушка на заднем сиденье.
Керчь была невысокого роста, с черными, коротко стриженными волосами. Она появилась в компании последней: мы встретили ее возле обрыва, когда я еще не умел водить авто и мы исследовали город на своих двоих – как правило, босых да совсем еще мелких – ногах. Порой несколько раз спали в пути. Так и с Керчью познакомились: мы застали ее спящей. Она любила бывать одна, и что нашла в нас, наверное, не знала сама. Мы вообще подумали сперва, что она мальчик. Ох, как же смеялись с Инкером, когда узнали правду! Керчь не обижалась – лишь хлюпала носом и глядела на нас исподлобья.
Она была умной, на самом деле, и на все имела свой взгляд. Наши любовные