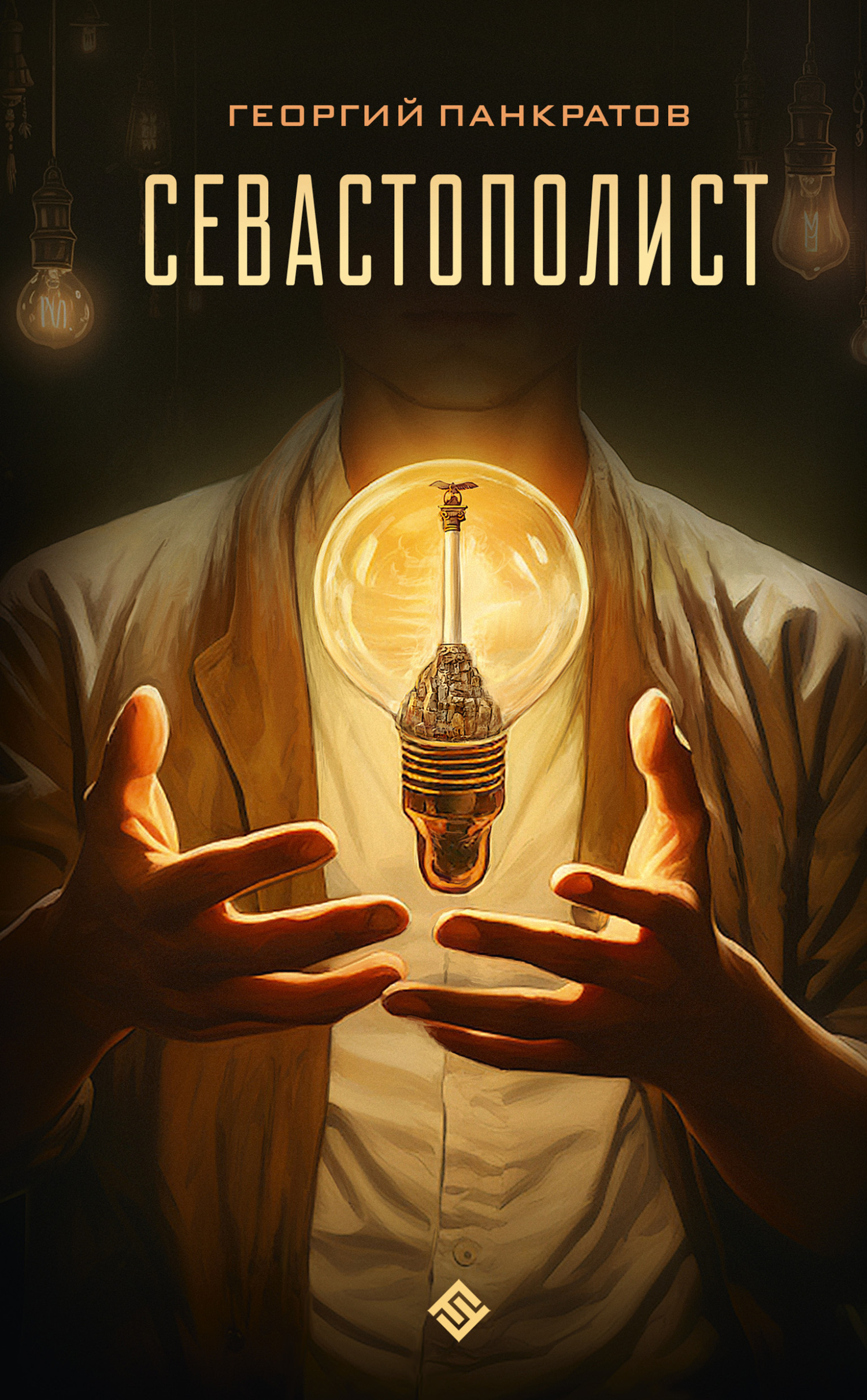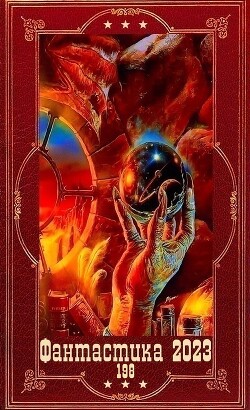земля. Ничего, заживет быстро! Быстро грусть пройдет. Быстро… как все быстро, и, представляя ее такой, испытывал только огромную безразмерную нежность.
И, замирая на мгновение, я ее видел – бегущую девочку в легком платьице, бегущую в новую жизнь. Нынешняя Фе, красавица из красавиц, наверное, хотела бы бежать от жизни… Не оттого, что жизнь плоха, а оттого, что известна, и оттого, что от жизни известно: маленькой девочки больше не будет, и убежать некуда. Я вдыхал горько-сладкий сухой куст, и мне казалось, что все уменьшается: и пыльная дорога впереди, и Фе, идущая по ней, и авто за моей спиной, и исполинская Башня, и оставленные где-то далеко улицы города… Все становится крошечным, и почему-то темнеет вокруг, словно на все, что существует, наваливается тень: как если бы ты открыл дверь в темный чулан, кладовку или погреб (ведь где еще в светлом нашем городе могло быть так темно?), но только это не ты отправляешься в темную комнату, а выпущенная тобой темнота отправляется осваивать пространство. Но ты не боишься, потому что растешь и становишься много, гораздо выше всего, что тебя окружает, – выше оставленных возле самой линии земли твоих друзей: они теперь единое целое с дорожным песком, с куцыми ворсинками-волосиками сухого куста, а ты растешь все выше, выше – ты уже вровень с Башней, ты тянешься к небу, ты преодолеешь его, порвешь его тонкую пленку, и… что там над ним, вверху? Вытечет, хлынет в дыру лопнувшего неба, заливая собой Севастополь, а ты… Ты хоть на миг увидишь, что там. Ты увидишь, где кончается Башня.
Только тогда я впервые понял, что вершину Башни всегда окутывают облака. В городе было мало облаков – они плыли по нескольким спланированным еще до меня и миллиардов таких, как я, маршрутам, будто небесные троллейбусы. Они всегда возвращались, как возвращались все мы, проходя линию. Но там, наверху, где Башня входила в небо, они лишь мельтешили вокруг, немного изменяя форму, но не исчезали, словно сами были частью Башни… Или, если уж мы вспоминали чайник, – иногда облака так клубились, что казалось: этот огромный чайник кипит.
Только здесь бывали грозы, и небесная вода стекала по скользкой сверкающей стене, а молнии отражались на ее идеальной глади. Но вода никогда не лила за пределами забора, который окружал Башню. Это мне нравилось: чего ж хорошего, если с неба льет вода? Ничего… Все это говорило лишь о том, что Башня жила по каким-то своим, неведомым всем нам законам. И с чем труднее всего смириться – мы были ей совсем не интересны.
– Это просто кусок металла, – услышал я голос Инкера. – Никчемная груда металла. И что мы вечно на нее так смотрим? Прыгаем вокруг нее, как муравьишки… Пошла она! Слышишь ты, эй!
– Ты чего? – оторопело спросил я.
– Она даже не живая, – пожал плечами друг. – Ты думаешь, там кто-то есть?
– Думаю? Да я уверен, – спокойно ответил я. – Иначе куда бы призывали избранных?
– А как они могут жить без окон? Без дверей? Может, их убивают там? Может, приносят в жертву?
– Скажешь тоже, – хмыкнул я, – в жертву кому?
– Может, это тюрьма, в которую заключили какого-нибудь исполинского бога, – хмуро предположила Керчь.
Да уж, с догадками у этих ребят никогда не возникало проблем. Но тогда я не захотел их слушать.
– Кто? Севастопольцы? – прыснула Евпатория. – Они и с нами-то, пятерыми, не знают, что делать… Куда б заточить… А тут – бога! Да ты видела вообще живого бога?
Не знаю, как насчет богов – в артеках нам о них не говорили, – а вот одну богиню я в своей жизни точно видел. И видел прямо теперь. Я решил поспешить и подскочил так, словно меня ужалил огромный жук-черниловоз, которых здесь было в избытке. Под ногами что-то хрустнуло, я тихо выругался и посмотрел на землю. Там лежали очки Феодосии; их было уже не спасти. Не сказать, чтобы я расстроился. Но увидеть свое лицо в осколках чего-то, что только миг назад было единым целым, а теперь лежало, бесполезное, исчерпавшее себя, не так уж приятно. Я скривился и поспешил догонять Фе.
Она замедлила шаг, словно давая понять: для того и уходила, чтобы я отправился за ней следом. Я поравнялся с ней. До линии возврата было далеко, но мы пошли еще медленней. Сзади слышался смех – Инкер набивал трубку сухим кустом, друзьям было чем заняться.
– Ну как ты? – спросил я.
– Тебе не надоело это все?
Я взял ее за руку, она взглянула на меня и криво усмехнулась. Наверное, мы смотрелись красиво: бесконечная дорога, кусты, небо, парочка простых и молодых…
– Ты – точно нет. – Я не хотел говорить о серьезном, хотя «серьезное» все чаще одолевало. Мы с Феодосией чувствовали друг друга, думали об одном. – Может, прокатимся вдвоем? Я развезу ребят…
– Инкер меня достал, по правде говоря. Он же ко мне клеится. Ты что, не видишь? Даже сегодня, пока ты отходил куда-то там, а мы ждали в машине…
– Он и к Евпатории клеится. Ты же знаешь… Наверное, думает: где-нибудь да получится.
– Евпатория без ума от тебя. – Она посмотрела на меня острым взглядом, словно хотела пробуравить.
– Знаю, – я пожал плечами.
– И что ты думаешь?
– Ничего.
– А то, что твой друг ко мне клеится? Тоже ничего?
Я понимал, к чему она клонит. Мне нравилась эта девушка, да, она была прекрасна. Но не хотелось говорить об отношениях, о планах, обо всех этих вещах, которые они, красавицы, так любят. Я вообще не знал, есть ли у нас отношения и должны ли они быть. Ведь мы всегда были друзьями. И то, что я чувствовал к ней, мне нравилось, но я сам не понимал до конца… Не понимал, что со мной, что с нашей компанией, что с миром и городом – ну да, это, в общем, одно и то же. Куда мне было понимать об отношениях? Я не хотел сдвигать этот камень с места – все и так хорошо, все нормально. А вот к Фе, похоже, приходила «жильца» – та самая.
– Наша компания маленькая, в ней непременно это случилось бы. Когда в компашке пять человек, все рано или поздно перенравятся друг другу.
– Почему-то со мной не так, – фыркнула она.
– Инкер – мой друг, – продолжил я. – Мы вместе почти с тех пор, как я открыл глаза. Как я себя помню. Даже вы все появились потом. Он странный человек; не знаю, почему так вышло. Порой мне кажется, что единственный,