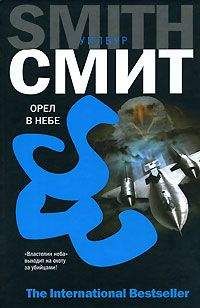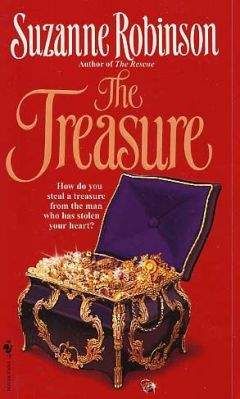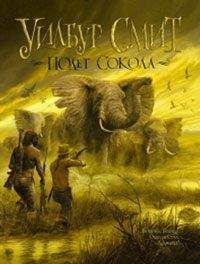– Вы виновны в гибели двух дорогостоящих военных самолетов. Вы виновны в гибели офицера и в том, что поставили нашу страну на грань войны, а это вызвало бы гибель многих тысяч молодых людей – и, может быть, угрожало бы самому нашему существованию. Вы привели в замешательство наших друзей за рубежом и придали сил нашим врагам. – Он помолчал и перевел дух. – Наша служба рекомендовала предать вас трибуналу и требовать смертной казни. Вас спасло только личное вмешательство премьер-министра и генерал-майора Мардохея. На вашем месте я бы не оплакивал свою судьбу, а считал, что крупно повезло.
Он резко повернулся, и его шаги гулко зазвучали в коридоре.
В пустом безликом вестибюле больницы Дэвид неожиданно ощутил острое нежелание выходить за стеклянную дверь на весеннее солнце. Он слышал, что заключенные, много лет проведшие в тюрьме, после освобождения испытывают такое же чувство.
Он отошел от двери и направился в больничную синагогу. Долго сидел в углу квадратного зала. Витражи высоких окон наполняли помещение разноцветными отблесками, и постепенно Дэвид проникался покоем и красотой этого места. Наконец он набрался мужества, вышел на улицу и сел в автобус, идущий в Иерусалим.
Он нашел себе место сзади, у окна. Автобус тронулся и начал медленно взбираться на холм.
Дэвид почувствовал на себе чей-то взгляд, поднял голову и на сиденье впереди увидел женщину. Неряшливо одетая, усталая, преждевременно постаревшая, она держала на руках ребенка и кормила его из пластмассовой бутылочки. Был и второй ребенок – девочка ангельского вида, лет четырех-пяти. У нее были огромные черные глаза и густые вьющиеся волосы. Она стояла на сиденье и смотрела назад, сунув в рот большой палец. Смотрела на Дэвида, изучала его лицо с детской откровенностью. Дэвид ощутил внезапное теплое чувство к этому ребенку, потребность в человеческом обществе, которого был лишен эти долгие месяцы.
Он наклонился вперед, пытаясь улыбнуться, и протянул руку, чтобы коснуться руки девочки.
Она вытащила палец изо рта и отшатнулась, повернулась к матери, прижалась к ней, пряча лицо.
На следующей остановке Дэвид сошел и поднялся с дороги на каменистый склон.
День был теплый и сонный, жужжали пчелы, из персиковых садов пахло цветами. Дэвид поднялся по террасам и остановился на вершине. Он почувствовал, что тяжело дышит и дрожит от усталости. За месяцы в больнице он отвык от ходьбы, но дело было не только в этом. Случай с девочкой вывел его из равновесия.
Он тоскливо взглянул на небо. Оно было чистое и ярко-голубое, с высокими серебристыми облаками на севере. Он хотел бы подняться к этим облакам. Только там он найдет покой.
На улице Малик он вышел из такси. Входная дверь была не закрыта, она распахнулась, прежде чем он вставил ключ в замок.
Удивленный и встревоженный, Дэвид прошел в гостиную. Все было так, как много месяцев назад, но кто-то все вымыл и вычистил, и в вазе на столе оливкового дерева стояли свежие цветы – огромный букет ярко-желтых и алых георгинов.
Дэвид почувствовал запах пищи, острой и пряной, особенно после пресной больничной диеты.
– Эй, – позвал он. – Кто здесь?
– Добро пожаловать домой! – послышался знакомый громкий голос из ванной. – Я не ждала тебя так скоро, ты застал меня с задранной юбкой и без штанов.
Послышались шаркающие звуки, в туалете громко полилась вода, и дверь распахнулась. В ней величественно появилась Элла Кадеш. На ней был просторный кафтан, ярко и примитивно раскрашенный. На голове зеленая шляпа с огромной брошью и пучком страусиных перьев на полях.
Улыбаясь, она широко развела тяжелые руки в приветственном жесте. Но улыбку тут же сменило выражение ужаса. Художница застыла.
– Дэвид? – Голос ее звучал неуверенно. – Это ты, Дэвид?
– Привет, Элла.
– О Боже! О милостивый Боже! Что они с тобой сделали, мой прекрасный юный Марс...
– Слушай, старуха, – резко сказал он, – если ты начнешь нести эту чепуху, я спущу тебя с лестницы.
Она с огромным трудом справилась с собой, удержала появившиеся на глазах слезы, но губы ее дрожали и голос звучал хрипло, когда она обняла Дэвида и прижала к мощной груди.
– В холодильнике пиво... и я приготовила жаркое. Тебе понравится мое жаркое, оно у меня всегда хорошо получается...
Дэвид ел с огромным аппетитом, запивая огненную еду холодным пивом, и слушал Эллу. Слова из нее били фонтаном, она пыталась скрыть замешательство и жалость.
– Мне не разрешали навещать тебя, но я звонила каждую неделю и все время узнавала новости. Мы даже подружились с сестрой, она дала мне знать, что тебя сегодня выписывают. Поэтому я приехала и позаботилась о встрече...
Она упорно избегала смотреть ему в лицо, а когда смотрела, в глазах ее появлялась тень, и она заставляла себя говорить еще веселее. Когда он наконец поел, Элла спросила:
– Что ты теперь будешь делать, Дэвид?
– Хотел бы летать. Мне это больше всего нравится. Но меня заставили подать в отставку. Я нарушил приказ, мы с Джо перелетели через границу, и больше я им не нужен.
– Чуть не началась война, Дэвид. Это был безумный поступок.
Дэвид согласился:
– Да, я обезумел. Я тогда не мог рассуждать логически... после Дебры...
Элла быстро прервала его:
– Да, я знаю. Хочешь еще пива?
Дэвид рассеянно кивнул.
– Как она, Элла? – Именно этот вопрос он хотел задать с самого начала.
– Хорошо, Дэви. Начала новую книгу, и та будет лучше первой. Я думаю, она становится очень хорошим писателем...
– Как ее глаза? Есть улучшения?
Элла покачала головой.
– Она примирилась. Слепота ее больше не тревожит, она приняла случившееся.
Дэвид не слушал.
– Элла, все это время, все время в больнице я надеялся... Я понимал, что это бессмысленно, но надеялся что-нибудь получить от нее. Открытку, слово...
– Она не знает, Дэви.
– Не знает? – Дэвид наклонился над столом и схватил Эллу за руку. – Чего не знает?
– После смерти Джо... отец Дебры очень рассердился. Он считал, что ты виноват.
Дэвид кивнул, лицо-маска скрывало его чувство вины.
– Он сказал Дебре, что ты покинул Израиль, вернулся домой. Мы поклялись молчать, и Дебра поверила.
Дэвид отпустил руку Эллы, взял стакан с пивом и отхлебнул.
– Ты не ответил на мой вопрос, Дэвид. Что ты собираешься делать?
– Не знаю, Элла. Мне нужно подумать.
* * *
Сильный теплый ветер дул с холмов, волнуя поверхность озера, покрывая его темными волнами с белыми гребешками. Пришвартованные у причала рыбачьи лодки качало, сети, выложенные для просушки на их палубах, развевались, как фата невесты.