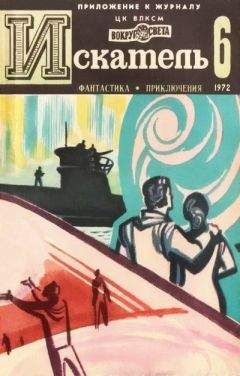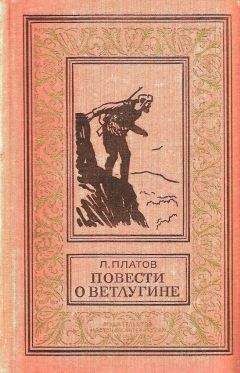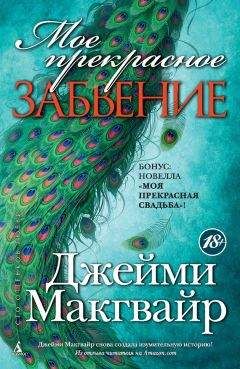Споры и ссоры с рабочими на борту и с официантками на берегу, с мужчинами в барах и женщинами в постелях. Ворчание в кубриках, драки на вечеринках, озлобленность, что другие отказываются понимать вашу точку зрения; самоволки, появление на борту в пьяном виде; стычка с береговым полицейским; жалоба на то, что один из матросов чуть не изнасиловал девушку. Воспоминания об Англии, внутреннее сопротивление роскоши, безделью, комфорту среди войны.
Благодарность американцам за радушие, которое по мере того, как настроение у всех портилось, превращалось в мысль, что так и должно быть. Смех над янки, задирающими нос. Над янки, которые жалуются на карточки; над янки, которые получают медали просто за то, что прошли от пункта А до пункта Б; над янки, которые думают, что они лучше всех, и говорят об этом вслух.
Воспоминания, а иногда и упоминания о тех первых двух годах американского нейтралитета, когда Старый Свет истекал кровью и едва не был побежден немцами. Драки, ссоры, мелкие стычки, горечь и скука. Все свойственное периоду застоя и ожидания действий.
* * *
— Беда этих людей в том, — говорил Винсент, маленький скромный лейтенант, который с самого 1939 года служил на корветах, — что они не принимают войну всерьез. Даже в теперешнем, в 1944 году они до сих пор вступили в нее только одной ногой. Их карточки — смех один. Ведь у них до сих пор можно купить сколько угодно мяса, масла, бензина. Особенно если у тебя есть знакомый за прилавком или в гараже. И кроме того, здесь считают доблестью, если удается урвать больше, чем полагается. Меня больше всего поразила их система призыва в армию. На вечеринке я познакомился с человеком, который гордился тем, что женат и имеет четверых детей. Из-за этого ему дали отсрочку. Бессмыслица какая-то… Где угодно — в Англии, в Германии, в России — жена и четверо детей как раз и есть причина, чтобы идти в бой. Это значит, что у тебя есть кого защищать. Но когда я сказал об этом, было все равно, что метать бисер перед свиньями… Они не рассматривают войну как бой, который нужно выиграть: для них война является чем-то вроде колючки на хвосте, несчастного случая, мешающего «американскому образу жизни». Если ты достаточно умен, то сможешь отвертеться от войны и предоставить своему ближнему возможность воевать, перерабатывать и жертвовать своими удобствами. Нет, так не воюют… Им чертовски повезло, что мы приняли на себя первый удар.
— Ты просто ничего не понял, — сказал Рейкс. — Конечно, так не воюют, но так выигрывают войны.
— Беда в том, — говорил Скотт-Браун, — что эти люди принимают войну слишком серьезно. Они видят в ней личную трагедию: тебя призвали — это ужасно; заставляют жить в палатках — пытка; отправляют куда-то в другое место — трагедия… Их газеты теперь подняли шумиху. Подумать только — Штаты вступили в войну! Все теперь у них самое крупное или самое великое. Удачная вылазка взвода морской пехоты или катастрофа. Каждый — герой, даже если просто напялил на себя форму и задирает официантов в ближайшем кафе. Интересно, что случилось бы, если бы на Нью-Йорк совершили хоть один приличный воздушный налет? Ведь они успели использовать свои запасы храбрости, когда прощались с Джо, уезжающим в лагеря на сборы. Газетам уже теперь не хватит эпитетов… Нет, американцы вовсе не великая нация. Просто их много.
— Беда в том, — говорил Локкарт, — что нас заставляют любить их, а ты знаешь, что этого делать не стоит… Помните, что было в середине 30-х годов? Они год за годом нас поучали и вопили, что нужно остановить Муссолини, Франко, Гитлера. Такие наставления были для них совершенно безопасны, если учесть, что раздавались они за три тысячи миль, за Атлантическим океаном. А когда война началась, они, прежде чем вступить в нее, подождали два года. Они ждали, а мы в это время прошли через Дюнкерк. Мы потеряли сотни кораблей и Бог весть сколько людей. Мы в это время совсем обанкротились. Отдали американцам почти все свои заморские капиталы и владения. И все только за то, чтобы они передали нам полсотни ржавых эсминцев, которые потом и из доков-то ни разу не выходили. А затем они, наконец, решили и сами вступить в войну. Думаете, они поторопились с этим? Черта с два!.. Они вступили в войну только потому, что на них напали японцы, и ни по какой другой причине. Если бы те этого не сделали, американцы до сих пор выжидали бы. А Гитлер-то не ждет. Если будет еще война, — мечтательно продолжал Локкарт, — я буду соблюдать нейтралитет, как янки, и займусь рассылкой инструкций о том, что нужно стоять твердо, нужно быть смелым. Возможно, создам организацию под названием «Посылки для Обеих Сторон». Но шутки шутками, а когда война кончится, американцы будут править миром, а мы, измотанные войной, будем сидеть без пенни. Они будут управлять всем. Эти дубинноголовые дети, которые не видят даже ближайшего поворота истории…
— Так их, так! — орал Аллингэм. — Боевые слова! Теперь я жду выводов.
— Выводов? А ну-ка, друг, смастери нам по ромовому коктейлю.
* * *
Локкарт снова и снова перечитывал письмо приятеля, совершенно не принимая его смысла:
«Ты наверняка слышал о том, что произошло с Джули. Как ей не повезло! Она оказалась на патрульном катере вместо одной заболевшей девушки. Катер возвращался из Хантерз-Ки поздней ночью. Налетел шквал. Двигатель отказал. Никто не знал о катастрофе несколько часов, а потом нам позвонил какой-то матрос и доложил, что пропали огни патрульного катера. Они не смогли выдержать холода и добраться до берега. В конце концов нам удалось подобрать тела семнадцати человек, среди них была и Джули…»
Она утонула… Страшные образы встали перед глазами Локкарта: слишком уж хорошо он знал Джули и хорошо помнил, как тонут люди. Он видел перед собой ее темные распущенные волосы, запрокинутую голову, ее тело, поднимающееся на волнах угрюмой серой реки, ребенка, который холодеет у нее под сердцем…
«Опять «Компас роуз», — подумал он. Он вторично ограблен тем же врагом — жестокое море отобрало ее навсегда.
Он шел один среди высоких зданий.
«Мужчины никогда не плачут на улицах, — думал он. — Никаких слез на Восьмой авеню!» Его охватила боль раскаяния. Он не должен был оставлять ее одну. Это он убил ее, уйдя так надолго… Она была уже мертвой, когда он посылал свое последнее письмо. Он писал призраку…
Матрос неудачно свернул швартов в бухту.
— Слушайте, — начал было Локкарт с мягким укором, но вдруг вспомнил что-то и отвернулся, оставив матроса в облегченном удивлении…
«Слушай» — словечко Джули. «Слушай, — говорила, бывало, она. — Ты даже не знаешь, что таков любовь…»