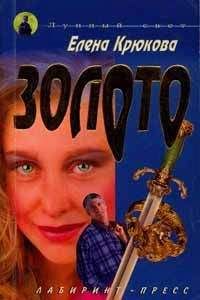Он повернул голову. Вежливо осклабился. И то, что он в очках, тоже хорошо. Очки сильные, минус-стекла, глазки уменьшают, никто не видит, как в глазах горит лихорадочный огонь мгновенного соображенья, схватыванья, запоминанья – стекла-то отблескивают, такие яркие, жаркие тут софиты, как в киностудии. Он повел глазами вбок, чтобы рассмотреть лежащую на двух витринах, рядом, на черном бархате, две роскошных золотых маски – мужскую и женскую, – и увидел слепую.
Слепая стояла рядом с витриной, где лежала женская маска, держа руку на витринном стекле. Рука ее дрожала. У ее ног крутился, задрав огромную кудлатую голову, скуластый, умно улыбающийся карлик; его чуть отвислые, собачьими брылами, щеки подпирал кружевной воротник. Рыбников наконец понял: Жизель Козаченко. Вся Москва знала слепую жену великого магната. Поодаль, у витрины с мужской маской, подносила руку к глазам, сворачивая кулак трубочкой, чтоб получше рассмотреть диковинное сокровище, художница ассирийка Джина. Длинные, миндалевидные глаза Джины излучали искреннее восхищенье.
– Я восхищаюсь ценами! – громко, не особенно стесняясь, сказала она. – Господин Кайтох превосходно осведомлен об истинной стоимости вещей! Думаю, что они даже немного занижены! Господин Кайтох делает нам поблажку! Это он для друзей старается!
Было непонятно, шутит она или говорит серьезно. Стоявший рядом с ней господин с маленькой лысинкой в виде монашеской тонзуры зааплодировал. Он щелкнул пальцами; официальный представитель подскочил к нему, угодливо наклонился. Они удалились; когда клерк вернулся к витринам, на витрине с золотым щитом замаячила табличка: «ПРОДАНО».
– Продано, – пробормотал про себя Олег. – Оп-па, готово дело. Я бы не хотел быть древним золотым щитом. Как прекрасно, что я живой.
Он подумал о том, что в наступившем веке, так же, как и во всех других веках, и живой человек, и жизнь будет так же бойко продаваться и покупаться, как вещи и украшенья, как нефть и наркотики; будет таким же ходким товаром, как и еда, и оружье, и власть. Всю жизнь вокруг себя, со всеми ее вещами и призраками, делает человек; значит, человек и есть самый дорогой товар?!.. Не ломай голову, Рыбников. Ты и так собрал уже достаточно матерьяла. Вынести в заголовок одну только стоимость золотого щита – и назавтра в стране грянет новая революция. «Новая газета» вызовет новую бурю. Новые Мараты и Робеспьеры ринутся ниспровергать нынешних олигархов, чтобы завтра самим стать олигархами. Дурная бесконечность. Добрый царь умер; да здравствует добрый царь. И равнодушное жаркое летнее солнце глядит на смену власти; и равнодушная ночная желтая, как лимон, Луна заливает холодным светом плачущее одинокое лицо слепой женщины, стоящей у окна. Вот ей хуже всех, Олег. Вот о ней возьми и напиши. Сдались тебе эти богачи. Ты же не сможешь ни уничтожить их несметные богатства одним росчерком бессильного журналисткого пера, лишь прикидывающегося едким и безжалостным, ни перекачать их деньги в тощие дырявые карманы обманутого по всем статьям народа.
Он шагнул чуть ближе к слепой. Увидел, как дрожит на стекле витрины ее рука. Ему отчего-то захотелось прильнуть к этой руке губами, благоговейно поцеловать ее – так она была хороша, красива, жалобна, тонка, прозрачна.
Сам не зная почему, он заговорил с ней. Карлик у ее ног встрепенулся, забеспокоился.
– Вы… ведь Жизель Козаченко, так?..
Она заметно порозовела. Ее губы слегка дрогнули. Широко раскрытые глаза обратились на Олега, и ему показалось – она смотрит на него и видит его.
– Да.
– Вы… ознакомились с продаваемыми сокровищами?.. Вам… разрешили… ощупать их, осязать, чтобы представить себе… тут есть уникальные вещи, это правда…
– Разрешили.
Молодец, подумал Олег, ты не слишком-то разговорчива, и это благо.
– Вы… приобретете здесь сегодня что-нибудь?..
– Да. Вот эту золотую маску. Я стою около нее. Когда кто-нибудь подходит и начинает интересоваться ею, я говорю, что она уже продана.
– Так попросите прислугу повесить табличку!..
– Зачем? Ведь я еще живая. Я могу говорить.
Не теряет чувства юмора. А лицо печальное, как у той золотой маски, хотя и улыбка на губах играет, то вспорхнет, то снова опустится на лицо, как бабочка.
– А если мне… тоже понравилась эта маска?..
– Чур, я первая. – Она по-настоящему улыбнулась, и блеснули зубы. – Я тут первая стояла. Мы с вами не подеремся.
Олег шагнул чуть ближе. Уловил аромат ландыша от гладко зачесанных волос. Окинул взглядом белые нежные плечи под песцовым боа, блестящее парчовое, сильно открытое платье. Стильно одевает слепую женушку Козаченко. Нет, он никогда не разведется с ней. Зачем? У него может быть куча любовниц. Слепая красавица-жена – о, это имидж тяжелой артиллерии. Мальчик знает толк в пудренье мозгов публики. Игра в благородство. Может быть, они и видят-то друг друга раз в месяц, да и то не в спальне. Видят!.. Олег закусил губу.
– Я могу поговорить с вами… побольше, подольше?.. не здесь…
Он не мог сказать, что он из редакции. Играть так играть роль «шпиона» до конца. Пусть она думает, что он в нее влюбился.
– Я все равно не уступлю вам маску. – Ее выщипанные брови встали над неподвижными, широко глядящими глазами страдальческим «домиком». – Не приставайте.
Карлик сердито сверкнул глазами. Взял коряво выгнутой ручкой, похожей на ухват, госпожу за руку. Она выдернула руку и погладила карлика по голове, как кота.
– О чем тут мои гости так любезно беседуют?.. не позволите ли вклиниться в ваш светский интересный разговор?.. золотая женская маска продана, о, господин… м-м-м… не имею чести вас знать… вы уже в курсе дела?.. Жизель вам сказала?..
– Рыбников, – сказал Рыбников и наклонил бородатую голову. Очки чуть не свалились при поклоне с его носа, он удачно поймал их, водрузил на место. – Я в восторге от выбора Жизель. А я, представьте себе, господин… м-м-м…
– Кайтох, – сказал Кайтох. Кровь бросилась Олегу в лицо. Краска проступила даже сквозь бороду. Сам хозяин. Колись, хозяин, как орех.
– Весьма польщен… господин Кайтох… я облюбовал вторую маску. Мужскую. Судя по всему, это маска царя. Я покупаю ее. Я буду счастлив иметь у себя дома сокровище мирового класса.
Что ты городишь Олег. Он испугался сам себя. Что ты такое несешь. Ты заигрался, братец. Они сейчас заставят тебя подписывать бумаги, заморочат тебе голову расчетом, закорючками, цифрами, платежками… чем хочешь… это же спектакль, ну, прекрати его, признайся, что ты газетчик, что ты тут занимаешься бездарным маскарадом, иначе тебя бы сюда ни за что не пустили, видишь, тут нет журналистов, ни одного журналиста, никогошеньки, ни знаменитых, ни заштатных, ты тут один, как перст… Он заставил себя улыбнуться как можно почтительнее, наклонил было голову опять, как Кайтох бросил ему в лицо: