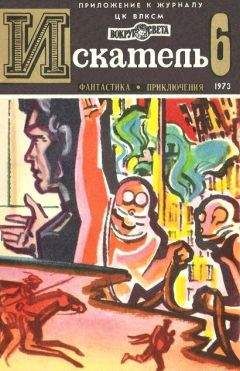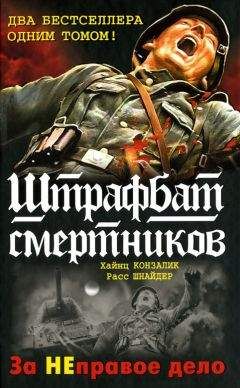Внезапно холм ожил. По наступающим ударили очереди автоматических пушек и пулеметов. Солдаты залегли. Тогда из укрытий с возвышенности зацокали одиночные короткие хлопки автоматов. Русские метко стреляли по лежащим на открытом поле врагам.
— Дьявольщина, так они всех перестреляют, как куропаток. Поручик, прикажите людям отойти!
— Надеюсь, теперь вы убедились сами, — начал офицер.
— Помолчите лучше. Да быстрее выполняйте приказ.
Немцы и финны отошли к лесу. Стрельба с холма прекратилась.
— Поручик, — позвал обер-лейтенант, — предложите им сдаться. Пообещайте, что их не расстреляют.
— А как это сделать? У меня никто не знает русского. Да и вряд ли это поможет, я встречался уже с большевиками, знаю их. Бесполезно.
— Хорошо, я сам возглавлю атаку в центре, а вы ударьте с фланга, от шоссе…
* * *
— Мишин? — позвал Бахметьев.
— Я здесь, товарищ капитан.
— Проползите по окопчикам, как там дела?
— Есть! — Стрелок пополз по траншее, соединяющей окопы.
Мишин скоро вернулся.
— Плохо, товарищ капитан. Трое нас, живых: вы, я и штурман, он ранен, правда, но говорит, что порядок.
— А с боезапасом?
— Вот все, — старшина положил в окоп три диска и шесть гранат, — и еще пара обойм к пистолету.
— Давай поделимся по-братски. Кстати, водички нет у тебя?
— Есть. Пейте, — Мишин протянул фляжку. — Все, все пейте, потом к озеру сползаю, еще принесу.
«Будет ли это «потом», — думал капитан. — Осталось нас двое, Штурман не в счет. Никогда не представлял, что придется вот так, вдали от Родины, летчику погибнуть, как пехотинцу. Глупо! Жалко ребят! Но лучше не думать об этом, не раскисать. Пока дышим — мы живы, ну а дальше уж не от нас зависит».
В голове гудело. Саднила оцарапанная пулей шея. Капитан положил голову на руки и закрыл глаза.
* * *
Наступила ночь. Обер-лейтенант задумчиво смотрел на еле маячивший за стволами деревьев холм. Коммунисты свалились как снег на голову, расхлебывай теперь эту кашу! Ведь о событиях, наверное, уже знают там, наверху. И все это под самым носом Маннергейма и в то время, когда, казалось бы, война приближается к концу; передовые части далеко от России, а почти у стен Хельсинки — русские. Парадокс!
Он приказал оттянуть окружение к опушке и подождать до утра, время от времени давать ракеты, освещая поляну.
* * *
— Товарищ капитан? — Старшина легонько тронул Бахметьева за плечо.
Из темноты к нему почти вплотную приблизилось закопченное лицо старшины.
— Штурман умер…
— Жаль… — тихо отозвался капитан. — Одни мы теперь с тобой. Ведь тоже долго не протянем, а?
— Сначала страшновато было. А потом увидел, как наши гибнут, так вот, честное слово, ничего не боюсь. Возмущение меня взяло: ярость, что ли. Зубами фашистов рвать готов.
— Ладно, нас хоронить рано. Мы еще дышим. Иди на свое место…
С рассветом комендант приказал начать решительный штурм.
— Пусть атакуют со всех сторон сразу, не жалейте солдат. Вперед, задавите их, залейте кровью.
В бой ринулось около сотни гитлеровцев.
Чувствовалось, что обороняющихся совсем мало. Ухнуло несколько взрывов, раздалась и тотчас захлебнулась, очевидно, последняя очередь…
Фашисты ворвались на перепаханную и иссеченную пулями высоту.
Вид ее был ужасен. Очевидно, прежде чем умереть, каждый защитник был несколько раз ранен. Кругом валялись гильзы патронов и снарядов. Живым из русских летчиков был только один: высокий старшина. Он сидел, прислонившись спиной к ящику из-под консервов; глаза его были закрыты, лицо и гимнастерка — в крови. Одна рука безжизненно висела вдоль туловища, вторую он держал у рта и зубами пытался выдернуть кольцо гранаты. Офицер поднял парабеллум.
— Отставить! — Комендант шагнул вперед. — Отберите у него гранату. И не трогать его, он честный солдат. Они все свято выполнили свой долг и стоят роты ваших егерей. Перевяжите и отправьте в лагерь, и пусть мужество этого русского парня будет примером для всех нас. Остальных похоронить…
* * *
Перед его глазами был длинный настил из грязных неструганых досок. Мишин попытался привстать, но тут же в изнеможении откинулся на спину. Тело было точно чужое. Стягивающие грудь и руку бинты не давали пошевельнуться. Каждое движение вызывало боль. В затылке, будто налитом свинцом, отдавался каждый шорох. Сначала ему показалось, что он один, но потом из сумерек появилось чье-то бледное лицо, и старшина услышал тихий, как шепот, голос:
— Отошел, кажется, а мы-то думали, не жилец ты.
Мишин еле-еле различал склонившуюся над ним фигуру.
— Где я? Как попал сюда?
— Тише, милый, тише. В лагере для военнопленных ты, где же еще. Два дня в сознание не приходил, считали — все, отмаялся, ан нет, очухался. На-ка попей. Сказывали, дружкам твоим всем конец.
Старшина со стоном приподнял голову. Он жадно приник к ржавому краю консервной банки. Задыхаясь, он пил и никак не мог напиться.
Потом Мишин долго лежал, медленно приходя в себя. В бараке стало совсем темно. Старшина заснул…
Вечером барак был полон народа. Слева и справа, в проходах были люди. Некоторые, перетряхивая трухлявую солому, укладывались на нары, другие, придвинувшись к коптилке, чинили одежду. Мишин приподнялся и сел. Сейчас же кто-то рядом произнес:
— Ну чего тебе еще, лежи!..
Это был голос человека, который говорил с ним утром.
— Завтра, если увидят, что встал, ишачить погонят, деревья валить. Уж лучше прикинься, что не можешь, иначе заездят насмерть. Вас, летчиков, здесь ненавидят, как и моряков. Лучше бы петлицы спорол, а?
* * *
— Кончай работу, — блоковой, размахивая палкой, шел между лежащих штабелями гладких и прямых бревен, — шевелись, лодыри, строиться на смотр живо!
— А что это за смотр? — спросил Мишин у соседа.
— Раз в месяц бывает. Приезжают хуторяне нашего брата в батраки набирать. Из лагеря освобождают, под залог, значит, к себе домой берут. Хорошо!
— Чего же хорошего в рабах ползать?
— А здесь ты не в рабах, чудак человек? Там же и бьют меньше, да и живешь сносно. Кормят хоть и отбросами, но все лучше, чем в лагере.
Заключенных выгнали на вырубленную, пестревшую свежими пеньками просеку: построили в одну шеренгу. Напротив стояли несколько хуторян-финнов. Вместе с офицером они пошли вдоль рядов осматривать узников. Все время о чем-то споря с комендантом, они выбирали батраков буквально как лошадей: щупали ноги и руки, заглядывали в рот, заставляли приседать.