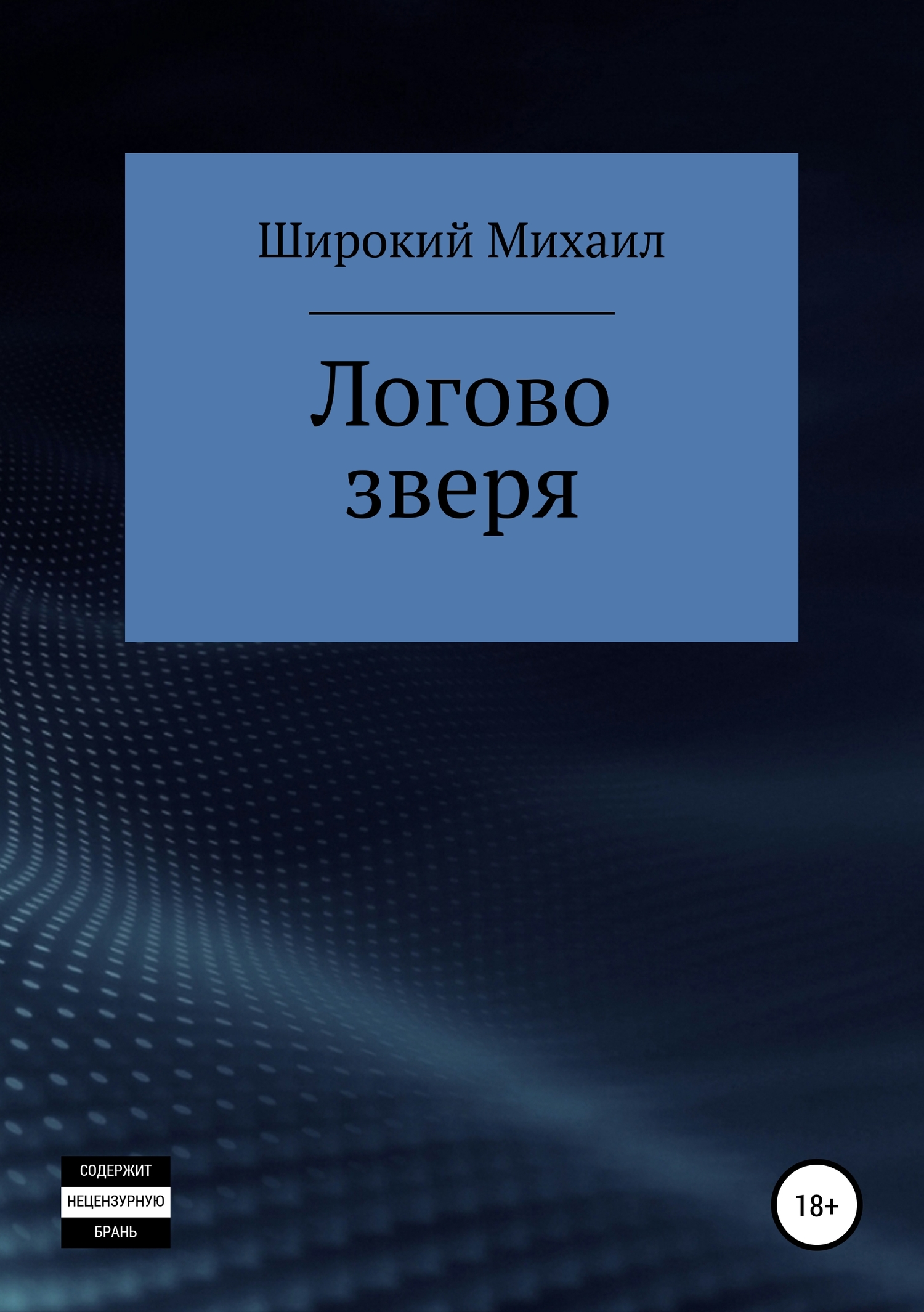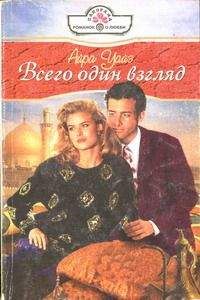легко, не поддаваться – насколько это было возможно – страху и панике, показать чудовищу, на что он способен, и, если уж ему суждено было умереть здесь и сейчас, продать, если получится, свою жизнь подороже.
Зверь между тем, выдержав небольшую паузу, вновь с коротким гортанным рыком кинулся на Юру. И снова тот ловко увернулся и, сделав молниеносное, неуловимое для глаз движение, отскочил в сторону и оказался сбоку от преследователя, который, не сумев вовремя остановиться, едва не врезался своим громоздким неуклюжим телом в стену.
Неизвестный обернулся и пристально взглянул на Юру. В его взоре читались уже не насмешка и пренебрежение к ничтожному противнику, а раздражение и всё более разгоравшийся гнев. Его глаза затмились и стали наливаться кровью. Оттолкнувшись от стены, он, злобно рыча и расставив огромные ручищи, бросился на неприятеля, рассчитывая раздавить его своей внушительной, неохватной массой, устоять перед которой было не в силах человека, даже самого крепкого и тренированного.
Но у Юры и в мыслях этого не было. Он понимал, что имеет дело с такой силой, противостоять которой на равных и думать нечего. Не говоря уж о том, чтобы одержать над ней верх. Так же как измотать и утомить её. Единственное, на что он мог надеяться в той убийственной ситуации, в которой он очутился, – избегать столкновения с монстром как можно дольше, насколько хватит его сил, выдержки и сноровки, пока ему не изменит удача (если в его положении вообще можно ещё было говорить об удаче) и он не совершит неосторожное движение, которое окажется для него роковым. А ведь рано или поздно – и он прекрасно осознавал это – он обязательно совершит этот промах, поскольку силы его далеко не беспредельны и после напряжённой бессонной ночи были уже порядком подорваны и истощены.
Чего совсем нельзя было сказать о его противнике, который, как могло показаться – и как, скорее всего, было на самом деле, – был неутомим, несокрушим, крепок и стоек, как скала, и мог без устали, не останавливаясь и не задерживаясь, преследовать того, кого он наметил себе в жертву. И эту последнюю способно было спасти и избавить от гибели разве что чудо…
Уклоняясь от занесённых над ним чёрных морщинистых лап, Юра вновь стремительно отпрянул и распростёрся навзничь, стремясь оказаться сбоку или позади врага. И это снова удалось ему. Однако уйти невредимым на этот раз не получилось: острый, как игла, кончик звериного когтя скользнул по его голове и оставил на ней отметину – неглубокий продолговатый порез, из которого тонкой струйкой потекла кровь. Юра в горячке почти не заметил этого, но лишь до тех пор, пока продолжавшая струиться из раны кровь не стала заливать ему глаза, принуждая то и дело смахивать её со лба, отвлекая внимание и мешая видеть противника.
В то время как тот видел его отлично, не отрывая от него своих маленьких проницательных глаз, горевших неугасимым, исполненным неутолимой злобой огнём и вспыхнувших ещё ярче, едва пролилась первая кровь. Чудовище с явным удовлетворением зарычало, радостно затрясло головой и ещё энергичнее устремилось на оказавшегося на редкость прытким, изворотливым и хладнокровным неприятеля, понимая, что силы того на исходе и теперь будут убывать ещё быстрее вместе с вытекающей из него капля за каплей кровью.
Понимал это и Юра. И вместе с этим пониманием он ощутил новый прилив уныния и безнадёжности. Более явственно, чем когда-либо, он почувствовал на себе ледяное дыхание смерти. По его бледному, измождённому лицу струился, мешаясь с кровью, холодный пот. Кружилась голова, в глазах рябило и темнело. Движения делались всё более замедленными, скованными, вялыми. Ему всё труднее становилось уворачиваться от нападений монстра, который, видя, что добыча слабеет, учащал свои атаки, стремясь поскорее закончить эту затянувшуюся и начинавшую тяготить его охоту.
Шаг за шагом, пятясь, спотыкаясь и шатаясь от слабости, Юра отступал от надвигавшегося на него убийцы, машинально смахивая набегавшую на глаза кровь и тускнеющим взглядом всматриваясь в дальний конец помещения, где, бессильно привалившись к стене и свесив растрёпанную голову на грудь, сидела полубесчувственная Марина. Она, как казалось, находилась в забытьи, не откликалась на происходящее рядом и лишь время от времени, когда из звериной глотки вырывался особенно звучный и раскатистый рёв, вздрагивала, с трудом поднимала голову и обводила кругом мутным, отсутствующим взором, вероятнее всего ничего не видя и не понимая. А затем опять никла и погружалась в беспамятство.
И Юра был рад этому. Меньше всего он хотел бы, чтобы она видела то, что должно было произойти через несколько мгновений. Сначала с ним, потом с ней. В эти последние секунды своей жизни он молил кого-то неведомого и могущественного, к которому никогда до этого не обращался, в которого не очень-то и верил, только об одном: чтобы она, та, что за эти два дня каким-то удивительным, непостижимым образом стала так дорога и необходима ему, та, которую он, несмотря на все свои усилия, так и не смог спасти, не ощутила, не поняла, не осознала того, что случится с ней, когда вслед за ним настанет её черёд.
И снова его охватило запоздалое, бесплодное раскаяние. Ведь ничего этого не было бы – всей этой крови, этих смертей, загубленных жизней, счёт которым должен был сейчас продолжиться, – если бы они с Пашей не набрели на лагерь археологов и не остались сделать там передышку, оказавшуюся чересчур долгой. В памяти у него всплыли слова Марины: «Вы привели с собой смерть!» Да, именно так. Это была горькая, беспощадная правда, которую ему приходилось признать. Не ведая, что творит, он погубил и себя, и её, и многих других. Очень многих! И за эту свою вину, хотя и невольную, но имевшую слишком тяжёлые, фатальные последствия, ему придётся сейчас заплатить самой полной мерой.
Оступившись, он потерял равновесие и, беспомощно взмахнув руками, упал на спину, в которую вонзились острые края битых кирпичей и ржавого металлолома, грудой сваленного в углу. Бегло оглядевшись, Юра убедился, что, даже если бы он не упал, отступать ему всё равно было уже некуда: он почти достиг края помещения, противоположного тому, где находилась Марина. Сердце в его груди упало и сжалось холодной, смертной тоской. Тело будто свело судорогой.
– Всё, конец, – выдохнул он, едва шевельнув белыми, неживыми губами и не сводя расширенных, застылых глаз с могучего косматого исполина, остановившегося в паре метров от него. При этом он, точно инстинктивно, не переставал двигаться, упираясь ногами в пол и отползая назад, пока не упёрся