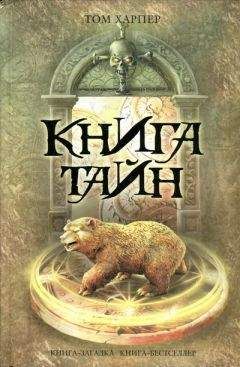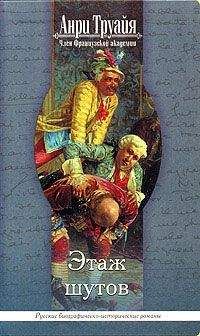Они последовали за ним по коридору между шкафов. Ощущение было довольно жуткое — с каждым их шагом чувствительные к движению датчики автоматически включали в полу огни, провожавшие их и гаснувшие, когда они удалялись. В шкафах Ник видел книги и кипы бумаг, лежавшие на полках, как мясо в лавке мясника. Цифровые дисплеи показывали температуру — минус 25 градусов по Цельсию.
Доктор Хальтунг остановился у ряда шкафов почти в середине помещения, порылся в кармане халата и вытащил компьютер-наладонник.
— Коллекция Мореля.
— Никто больше не приезжал посмотреть на нее? — спросил Ник.
Хальтунг потыкал пальцем в экран наладонника.
— Никто не имел доступа к этим материалам, кроме нашего персонала. В соответствии с вашими инструкциями, герр Ательдин.
Ник испытал привычный укол разочарования. Джиллиан здесь не было.
— Что именно вы бы хотели посмотреть, будьте добры?
— Каталожный номер двадцать семь «Ди», — сказал Ательдин. — Бестиарий неизвестного автора, пятнадцатый век.
— Конечно.
Хальтунг снова потыкал пальцем в наладонник, затем нажал кнопку на дверях шкафа. Ник услышал чмокающий звук ломающейся печати, потом шипение воздуха. Хальтунг надел пару плотных рукавиц, пересчитал полки, снял с одной том, положил его на деревянную тележку.
Ник попытался разглядеть книгу в сумеречном свете. Она была меньше, чем он предполагал, — размером с обычное издание, в потрепанном кожаном переплете. На корешке образовалась ледяная корочка, как у мороженого, залежавшегося в морозилке. Книга была перехвачена двумя полосками бинта.
Быстрым шагом Хальтунг покатил тележку в остекленную комнату в конце подземелья. В тот миг, когда они пересекли дверь, загорелся ряд огней наверху.
Ник протер глаза, испуганный неожиданным светом. К полу в центре помещения, похожая то ли на реактивный двигатель, то ли на турбину, была прикручена странная машина: огромный цилиндр, прикрепленный к коробу, и все это сверкало нержавеющей сталью. Сбоку горели красные и зеленые огни, а из стен и пола выходили трубки и провода, исчезавшие в коробе.
— Вообще-то процесс довольно прост, — сказал Хальтунг. — Похож на приготовление растворимого кофе.
Он распахнул дверь в передке машины, и они увидели еще один ряд полок, словно в духовке пекаря. Хальтунг сунул туда книгу, потом зашел сбоку и принялся нажимать кнопки. На панели замигали огни.
— Вот в этот самый момент давление в камере близко к норме, тысяча миллибар. Мы уменьшаем его до шести миллибар. Это почти полный вакуум.
Он нажал последнюю кнопку, и машина зашипела и завибрировала, послышался рев, словно на полную мощность включили фен для сушки волос.
— Вакуум мгновенно превращает лед в газ, минуя стадию превращения в воду. Испарение, верно? И вот книга сухая. Чернила не текут, материя удерживает страницы на месте. Идеально!
— И можно посмотреть сейчас?
— К сожалению, нет, — сочувственно сказал Хальтунг. — Книга по-прежнему имеет температуру минус двадцать градусов по Цельсию. Если вы перевернете страницу, она хрустнет в ваших руках. Теперь мы должны вернуть нормальное давление и нормальную температуру в плюс двадцать градусов.
— И сколько на это уйдет времени?
— Может быть, часа два. — Хальтунг отошел от машины. Звук урагана стих, его заменило низкое урчание. — Хотите пока выпить кофе?
— Вы его тоже готовите в этой машине? — спросил Ник.
Хальтунг не понял шутку.
— Мы пьем «Нескафе». — Он снял трубку со стены и набрал номер. Подождал. — Видимо, охранник вышел в туалет.
Хальтунг повесил трубку, на лице у него появилось озадаченное выражение.
— Я схожу наверх. Пожалуйста, ждите здесь.
Он вышел из помещения. Ник проводил его взглядом по освещенному красным светом складу — напольные огни с опережением зажигались перед ним, словно ударная волна, а когда он проходил — гасли.
Ник подошел к машине и заглянул внутрь сквозь окошко. Книга неподвижно лежала на полке. Ледяная корочка исчезла. Два дисплея у дверки показывали, как растут температура и давление.
— Невероятно, если подумать, — сказала за его спиной Эмили. — Пять или шесть столетий назад эта самая книга представляла собой листы пергамента и склянку с чернилами где-то на столе в Париже. Она пережила бог знает сколько королей, войн, владельцев… Она промокла, была заморожена, высушена в замороженном виде с использованием самых современных технологий двадцать первого века… и после всего этого мы сможем снова увидеть те самые слова, что написал автор.
— Если повезет, — добавил Ательдин.
Волна усталости накатила на Ника. Было почти два часа ночи, и смена часовых поясов все еще давала о себе знать. Хальтунг с кофе все не появлялся.
— Я пойду прогуляюсь.
Ательдин хотел было возразить, но ограничился недовольным:
— Только ничего не трогайте.
Дверь автоматически раскрылась и выпустила Ника в красный кокон склада. Он пошел по коридорам замороженных книг, загипнотизированный тем, как напольные огни словно растекались перед ним. Он на ходу заглядывал в двери шкафов, видел связки книг на полках и спрашивал себя: что там — под этими потрепанными обложками. Может быть, никто не читал этих страниц и своего открытия ждут окаменелые ископаемые, пока запертые в вечной мерзлоте. Может быть, что-то в этом роде и обнаружила Джиллиан?
Он завернул за угол и увидел сплошную бетонную стену: конец хранилища.
«Теперь, наверное, нужно возвращаться назад», — подумал он и развернулся.
Почти в то же самое мгновение желтый свет разлился чуть поодаль по передней стене, когда открылись двери лифта. Появился Хальтунг. Кофе он не нес, и это было к лучшему — его трясло так, что он наверняка расплескал бы его.
Из кабины лифта появилась рука в черной перчатке и с пистолетом, сунула оружие в спину Хальтунгу.
Штрасбург
Винт затянули сильнее. Доска заскрипела, вдавливаясь во влажную бумагу. Мы выдержали ее прижатой немного, потом отпустили винт. Драх поднял листок и повесил на веревку, натянутую между двумя балками.
— Двадцать восемь.
Двадцать восемь. Я отошел от рукояти пресса и пошел посмотреть листок. В некотором смысле видеть там было нечего — он был абсолютно неотличим от двадцати семи предыдущих. Но для меня это значило все. Я разглядывал этот листок, как отец свое чадо. Но это было лучше, чем чадо, потому что сын — всего лишь несовершенная копия отца. Эта копия была идеальной.
Она не была красивой. Однообразный текст, трудночитаемый, потому что на изготовление стальных пуансонов ушло слишком много времени и мы ограничились только прописными буквами. Тут не присутствовало разнообразия размеров или толщины линий, какие применяются писцами, если не считать одной-единственной витиеватой буквицы, которую Каспар собственноручно вырезал на медной доске. Я в двадцать восьмой раз взглянул на листок и вздохнул. Мой скучный ряд букв, единственное достоинство которых состояло в их упорядоченности, против живописных кривых и буйных щупалец его единственной буквы. В этом что-то было.