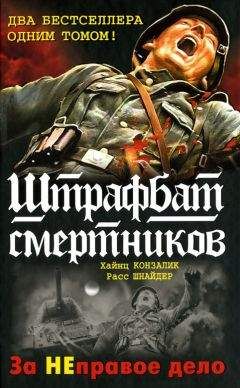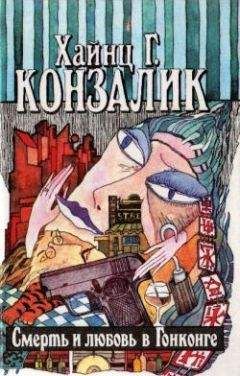— Ничего, наступят другие времена! — грозно предупредил он.
Кроненберг энергично закивал:
— Хочется надеяться. Мы все этого ждем не дождемся…
— Что вы имеете в виду?
— То же, что и вы, герр обер–фельдфебель.
Так и прошел вечер. Но ночью, когда они стояли на холоде у операционной, Крюль притих, было видно, что его гложут мысли. Он думал о неумолимо приближавшемся фронте, о партизанах, вовсю хозяйничавших поблизости, причем как раз в том районе, миновать который им предстояло сейчас, о минометных обстрелах во время земляных работ на подготавливаемых ими запасных позициях, о беспощадном артогне русских. О таившем в себе смутную угрозу будущем, о пока что едва ощутимых, однако верных признаках грядущей катастрофы.
Крюль не понимал, откуда взялись дурные предчувствия. Они возникли у него, как и у остальных, совершенно внезапно, почти незаметно, крадучись, проникли в душу и теперь уже, по–видимому, навсегда поселились в ней.
И вот он стоял, опершись о заиндевелую бревенчатую стену, позабыв даже о стоявшем рядом Шванеке. Ему было даже наплевать на то, что промаршировавшая в двух шагах рота так и не удосужилась приветствовать его. Наконец появился обер–лейтенант Обермайер. На голове у него была ушанка, лицо повязано теплым шарфом, будто офицер собрался к зубному врачу избавляться от флюса.
— Все понятно, обер–фельдфебель?
— Так точно, герр обер–лейтенант!
— С нами пойдет и Дойчман. Сейчас он будет здесь.
— А чем он так занят? — довольно бесцеремонно осведомился Шванеке.
— Доктор Хансен готовит для него перевязочные материалы, — машинально пояснил Обермайер, но, спохватившись, что отчитывается перед рядовым, уже раскрыл рот, чтобы отчитать не в меру любопытного Шванеке, но отчего–то сдержался, только молча посмотрел на него. Карл Шванеке выдержал взгляд Обермайера.
— Шванеке…
— Понимаю, понимаю, герр обер–лейтенант. Можете не напоминать: за попытку к бегству расстрел на месте. Сотни раз мне это говорили. Вот это у меня уже где сидит!
Шванеке сделал многозначительный жест.
— Вот и не забывайте. Послезавтра вас направляют в Оршу.
— Зачем это?
— Вы знаете зачем.
— Направляют так направляют…
Показались запряженные парой лошадей сани. Подъехав к сараю, остановились. Вожжи держал закутанный, словно мумия, солдат, казавшийся пришельцем из неведомого мира. Отдавая честь, он кое–как поднес ладонь к меховой шапке, которую стащил с головы у кого–нибудь из местных мужиков. Из хаты, где размещался госпиталь, неторопливо, точно лунатик, вышел Дойчман. Он шел ссутулившись, ни на кого не глядя. Обермайер уже во второй раз спросил его, что все–таки случилось. Дойчман никогда не отличался словоохотливостью, однако успел привыкнуть и к военной форме, и к подразделению. От этого человека всегда исходило странное спокойствие, даже безразличие — как будто он уже заранее свыкся со всеми неприятностями — прошлыми, настоящими и грядущими. Однако с того момента, как сегодня утром Обермайер вручил ему это непонятное послание, из Дойчмана словно воздух выпустили. Сейчас это был онемевший зомби, ходячий покойник, лишь по необходимости реагировавший на вопросы и указания, действующий как автомат.
Крюль первым забрался в сани. Потом потащил за собой Шванеке и, усадив его рядом, всем своим видом показывал, что, мол, тот под его охраной. Дойчмана же обер–фельдфебель демонстративно игнорировал.
Из своей хаты выскочил доктор Берген и крикнул Обермайеру:
— Только что звонил Вернер. Русские на тридцать километров прорвались в районе Витебска. Он считает, что следующий их удар придется на наш участок.
Потом, вплотную подойдя к Обермайеру, вполголоса добавил:
— Знаете, может, мы с вами видимся в последний раз. Так вот, знайте — вы один из немногих порядочных людей здесь… А я… я…
Не договорив, Берген повернулся и, торопливо перепрыгивая через сугробы, бросился к себе. Посмотрев ему вслед, Обермайер покачал головой, затем сел в сани рядом с Крюлем.
— Поехали!
— Русские прорвались? — испуганно спросил Крюль.
— Похоже, так.
— И что теперь — на нашем участке их ждать?
— Вполне вероятно.
Крюль судорожно сглотнул.
— А что делать, когда здесь начнется заваруха, герр обер–лейтенант? У нас же ничего нет. На целую роту всего три пулемета, четыре автомата, десяток карабинов, пять пистолетов. И больше ничего. И этим мы должны сдержать натиск русских?
— И опять вы правы, Крюль.
Эти слова обер–лейтенанта вызвали у Шванеке кривую улыбку.
— Сейчас завоняет, герр обер–лейтенант, — с издевкой предупредил он Обермайера. — Вы бы от него отодвинулись на всякий случай, у него уже штаны полные…
Но Крюль пропустил мимо ушей издевку Шванеке, продолжая во все глаза смотреть на обер–лейтенанта.
— Они ведь как зайцев перебьют нас, — дрожащим голосом произнес он. — Разве мы можем позволить им?
— А почему бы и не позволить?
Обермайер потер застывшие руки.
— Как вы думаете, для чего мы здесь? Именно для этого.
Когда сани въезжали в Горки, уже брезжило утро. Они остановились перед командным пунктом роты. Йенс Кентроп, в отсутствие Обермайера и Крюля исполнявший обязанности командира роты, выскочил из дома и доложил обстановку. Унтер–офицеры Хефе и Бортке были на рытье траншей и передали ночью по проложенной ими телефонной линии, что русские обстреляли рабочую колонну в немецком тылу. Поскольку из оружия имелось лишь три карабина и два пистолета, рота понесла серьезные потери: семеро убитых и тринадцать человек раненых. Лишь по прибытии подкрепления с пулеметом и двумя автоматами русские были вынуждены отойти, оставив троих убитых.
Обер–фельдфебель Крюль, слышавший доклад Кентропа, вдруг почувствовал, что мир вот–вот рухнет и погребет его под обломками. Именно этого он больше всего и страшился.
Обермайер молчал, потом кивнул Кентропу и, опустив голову, направился в хату. Кентроп, повернувшись к Крюлю, озабоченно произнес:
— В общем, дела ни к черту. А это только начало. В расположении 1–й роты сегодня ночью тоже была жуткая стрельба.
Дойчман слышал все, словно уши у него были заложены ватой. Ему ни до кого дела не было. Все с тем же отсутствующим видом, не покидавшим его с тех пор, как он прочел письмо доктора Кукиля, он тоже прошел в хату, где уселся в своем закутке, в котором обычно спал. Роковое послание зловеще похрустывало в левом нагрудном кармане. Пока они добирались до Борздовки, Дойчман ни слова не проронил, хотя и Крюль, и Шванеке пытались разговорить его. Юлия умерла. Это прочел между строк. Это произошло на глазах у доктора Кукиля. Она принесла себя в жертву ради него, Эрнста Дойчмана. Она хотела доказать, что он невиновен. Она верила в него, в его работу, доверяла ему — но актины не спасли и ее. И какой теперь смысл в том, что доктор Кукиль просил его выслать ему формулы, отчеты об экспериментах, обобщения? Какая разница, что теперь он верит в эффективность актиновых веществ, что, видите ли, сожалеет, сочувствует, раскаивается, что обещает добиться его реабилитации? Все это вещи второстепенные, суть маловажные. Важно одно — Юлии больше нет, она умерла, пока он тут с Таней забавлялся… Эрнста это мучило, и ни конца этим мукам, ни выхода из них не было. Он до конца дней своих обречен корить и ненавидеть себя за это. Сидя на санях, уставившись вперед, он ощущал, что он, именно он один повинен в смерти Юлии. И никакая сила на земле не могла снять с него эту вину. Достав письмо из кармана, он разорвал его на мелкие клочки и втоптал их в земляной пол. А может, мелькнула безумная надежда, а может, все–таки Юлия выжила? Ведь Кукиль писал, что она в тяжелом состоянии, о смерти же в письме ни слова. Может, может она каким–то чудом, но все же оправилась от болезни, как и он сам? Может… Может… Вздор все это, и ничего больше. Вздор!