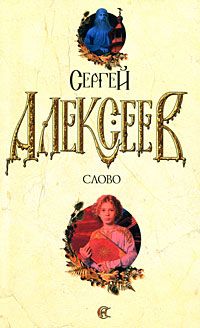Вернувшись из дальних кержацких сел, Гудошников ничего понять не мог. Аронов уехал, даже не предупредив его, а кержаки вдруг замкнулись, не желали разговаривать, слушать не хотели.
– Обманул ты нас, паря, – тянули. – Обманул, так обманул…
После этой третьей экспедиции на Дальний Восток союз распался.
И теперь, когда отдел, университет и областной музей начали развертывать программу поиска и сбора рукописного наследия, Аронов вспомнил Гудошникова. Вернее, о нем он никогда и не забывал, а на память пришли его высокие и чистые идеи, за которые Аронов и сам дрался три года. Никита Евсеич предлагал создать Всесоюзный центр или комитет по спасению малых исторических памятников – ни больше ни меньше. После этого он хотел, чтобы правительство обратилось к народу с призывом о сдаче всех редких и рукописных книг, художественных полотен и икон государству. Он предлагал направлять ученых и любителей старины в самые глухие уголки страны, в действующие монастыри, церкви и религиозные общины для обследования книжных собраний и пропагандистской работы. Предлагал на уровне посольств начать переговоры со странами, куда в разные времена были вывезены русские рукописи, о возвращении их на родину, в Россию.
Однако главным в его предложениях было то, что смущало всех: обязательным, считал он, должно стать изучение в школах и вузах истории русского языка и письменности (в союзных же республиках необходимо изучать историю своего родного языка), строить народные библиотеки с рукописным фондом. «Это национальный позор, – с обычной прямотой писал Никита Страстный. – Наши ученые знают латынь и древнегреческий, современные иностранные языки и эсперанто, наши школьники зубрят чужую речь, но никто, кроме узких специалистов, и строчки не может прочитать на древнерусском. Кириллица для русского человека стала чем-то вроде китайских иероглифов: хоть кверху ногами букву переверни – все одно непонятно. Что за невежество для нашего времени! Физику с математикой изучаем, от Евклида и Демокрита, а язык свой, на котором говорим, думаем, – лишь самый его кончик. Какое слово познал человек от рождения – с тем и умер. Что было до него – так во мраке и остается. И тает, и сыплется словарное золото из худого мешка…
Если вы вдруг ощутили в своем сознании неясную, но открывающую какую-то истину мысль, если у вас «на уме кружится» гениальная или самая простая истина, а на свет так и не рождается, и если, наконец, вы просто не в силах сказать словами то, что в вашей голове, – вам в первую очередь нужно изучить свой язык, а не дополнительные сведения о предмете. Не зря все ученые-энциклопедисты досконально владели родным языком. Не случайно Ломоносов писал стихи и работы по русскому языку. Когда у человека беден словарный запас, ему не только говорить нечем, а и думать тоже. Ему надо перелить мысль в форму слова, а формы нет! В технических вузах русский язык совсем не изучают. Стыд и срам слушать унифицированный язык инженеров. А послушайте, как говорят выступающие с трибуны? Русский человек разучился говорить по-русски, заштампованность речи всегда на Руси считалась несусветной глупостью оратора, а ныне преподносится как образованность. Где же он нынче, гибкий, красочный, точный – богатейший русский язык?.. А коли говорят штампами, то и думают точно так же, и нет у человека воли в мышлении…»
Все это Гудошников предлагал начать немедленно и по всей стране. И зная, какие сокровища лежат у него в темной комнате за семью замками, он ставил условие: как только прозвучит обращение к народу о сдаче исторических памятников письменности и литературы и появится решение о создании библиотек с рукописным фондом для широкого круга читателей, он первый сдаст свое собрание. Все, до единого списка, до последней грамоты. Сам же пойдет работать на выдачу книг…
Но страна в то время боролась с разрухой. Еще многие города наполовину лежали в руинах, а заводские станки работали под открытым небом. Еще действовала карточная система на хлеб, люди ходили разутыми, в лаптях, в чувяках из сыромятины. Государство еще только-только приступало к восстановлению народного хозяйства, а в международной политике уже веяло «холодной войной» и опускался «железный занавес».
Оставшись один, Гудошников выбросил забытую Ароновым палку и запер дверь. Хватит на сегодня гостей. От одного голова Кругом и руки до сих пор подрагивают, нервы совсем ни к черту стали. И чего, спрашивается, вскипел? Куда понесло?.. Нет, чтобы с достоинством и честью выпроводить за порог, сказать в глаза все накопившееся в душе против этого человека и выставить. Теперь вот сиди, думай, перебирай в памяти то, что напорол в горячке. Натура еще дурацкая: любую неудачу, неловкость свою сорок раз в уме прокрутишь, сорок раз пожалеешь и покаешься…
Но собраться с мыслями и обдумать все услышанное несколько минут назад Гудошникову не дали. В этот день люди словно сговорились стучать в его двери.
Спустя четверть часа явился сосед Сухорукое, человек мягкий, тихоголосый, словно вечно кем-то обиженный или виноватый. Никита Евсеич подозревал, что Сухоруков наверняка баптист, – а такие в нижней, деревянной части города водились: больно уж всепрощенческим духом несло от его покорности. Что ни скажешь – все кивает, соглашается, а сам – по глазам видно – себе на уме.
– Что же вы, Никита Евсеич, собачку-то мою, Пушка моего стрелили? – тихо спросил он. – Безвредный кобелек был, на цепи сидел.
– Я в бродячих стрелял, – сказал Гудошников. – Житья от них не стало.
– Так ведь весна, гон у них, – слабо улыбнулся Сухоруков. – Природа требует… Бродячая не бродячая – все одно живые души, жить хотят. Я-то к вам не в претензии: ну раз сорвался с цепи… Только получается больно уж чудно, непонятно мне. Вы человек грамотный, заслуженный, старые книги читаете, а живую тварь не пожалели… Бродячие-то они от чего? Да от нас, людей.
Гудошников сощурился, поджал губы. Что-то уж очень знакомое показалось ему в тоне и голосе соседа. Будто слышал он уже и тихую речь эту, и глаза эти видел… А может быть, он слишком долго живет и много повидал за свою жизнь, потому и люди перед ним словно повторяются, словно по кругу ходят. Ведь давно уже стал замечать за собой, что каждый день, каждое число месяца представляются ему какой-то датой, а вот какой – убейся, не вспомнишь.
– Много ли собаке надо? Бросил ее, прогнал со двора – она и бродячая, – продолжал сосед. – Это человек еще цепляться будет, еще надеяться… За что же бить-то ее? Человека бить надо.
В памяти Никиты Евсеича встал угрюмый, безлюдный остров на Печоре, пустой скрипучий Северьянов монастырь и стаи бродячих собак-побирушек. И голос Петра Лаврентьева, будто из тьмы: «Зло – оно в самом существе человеческом, во всех делах и помыслах… Собачки, они что, они мертвого грызли, а люди-то живьем друг друга…»