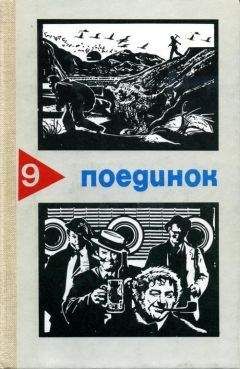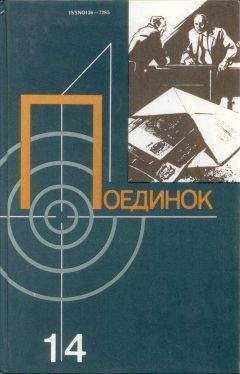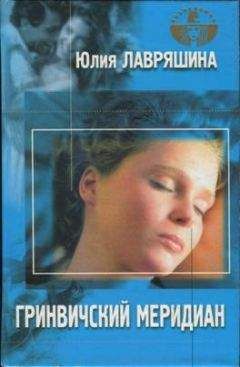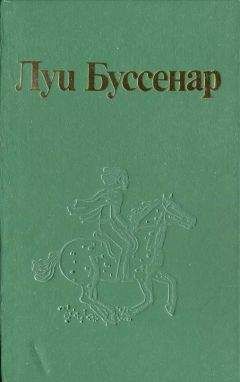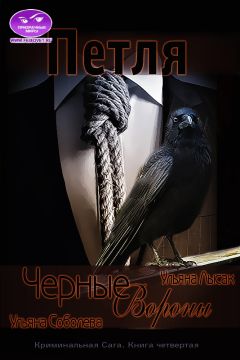«Как? — разочарованно подумал Павел. — Она ему наставила рога, и все обошлось миром? Какая банальщина! Я-то думал…»
— …Прихожу, значит, со смены и рот разеваю: шкафы открыты, тряпки разбросаны, половину посуды из серванта будто корова языком слизала, — продолжал Лева. — Мать-перемать, думаю, ограбили! «Авдотья!» — кричу. Никто не откликается. И только теперь записочку на столе вижу. Так и так, пишет Авдотья, уходит, мол, она с детьми к учителю, потому как промеж них возникла великая любовь. Тут на меня, как на шибко пьяного, вроде как темнота погребная нашла. Как с топором по улице бежал, как очутился возле хаты учителя — ничего не помню. А на крыльце учительском стоит Рыжов, наш участковый, в полном милицейском облачении, при оружии. «Добрые люди, — говорит, — посоветовали мне за тобой нынче присмотреть, Кондаков. И не зря советовали. Брось топор, иди с миром». «Рыжов, — это я отвечаю, — не стой на пути, а то и тебя вместе с ними!» Он пистолетик тогда свой прямехонько в лоб мне наводит. А в это время сзади дружиннички набрасываются, долго ль, коротко ли, руки за спину заламывают и в участок ведут. Рыжов делу бы ход мог дать, за решетку засадить, потому как я сопротивление властям оказал, да пожалел меня. Посадил в кутузку, что при участке, пить-есть приносил, все беседовал. Возьми, мол, себя в руки, переживи. Три дни не выпускал. Потом выпустил, но глаз с меня не сводил, тенью ходил. Тогда уж и запил я! Хлещу ее, родимую, а облегченья нет и нет. Все из хаты пропил, за одежку свою принялся. Скоро и одежку пропил. Встаю как-то в дрожи похмельной, а опохмелиться-то и нечем. Этого и ждал наш Рыжов. Заходит. «Вот что, — говорит, — надумал, Кондаков: а не уехать тебе из села, хотя бы на время? Я б, — говорит, — на твоем месте уехал, тем паче, что учитель официально зарегистрировал с Авдотьей Кирилловной брак, усыновил Ваньку и удочерил Анюту». «Так она же, — кричу, — не разведена со мной!» «Суд развел, — отвечает, — когда ты в запое был». И просит: «Уезжай, прошу тебя, иначе я тебя как антиобщественного элемента и злостного тунеядца суду предам». Ушел он. Дожил, думаю, Лев Кондаков. Из передового тракториста района, у которого грамотами все стены обклеены, в антиобщественного элемента и тунеядца превратился. Вспомнил Авдотью, детей… Гляжу, крюк в потолке торчит. В сенях срываю веревку бельевую, петля, табурет и прочее. А веревка возьми да оборвись: тяжел я очень. Сижу, значит, на полу, шею потираю, а сам думаю: пожить-то хочется, подохнуть-то всегда успеется. Ну, а потом на Север подался…
Лева замолчал и начал сворачивать новую самокрутку.
Павлу стало скучно. Чужая жизнь, чужие переживания его никогда не трогали и не интересовали. Его интересовало только собственное «я», и ничто больше. Потом он вдруг вспомнил Лилю. «А может, я пережил горьких минут не менее, чем он, — подумал Павел, с неприязнью глядя на Леву, — однако горе мое не дало мне права срывать свое зло на других и набрасываться на людей, как цепная собака». Было мгновенье, когда Павел хотел высказать эти мысли Леве, но потом скучно подумалось: а зачем? Какое ему дело до него?
А Лева мысленно как бы перенесся в родное Лаврентьевское. Ему хотелось поговорить:
— Помню, с Анютой раз пошел по грибы. На ней сарафанчик красный, ну, что ягодка. Задумался о чем-то, глядь — нет рядом дочки. Забегал, перепугался — страсть! Она же…
— Пора идти, — зевнув, перебил его на полуслове Павел и поднялся.
Лева как бы осекся, с нескрываемой ненавистью посмотрел на геолога.
— Проверь радиометр, работает ли? — спросил Павел.
Лева глядел на свои бахилы и не отвечал.
— Лев, слышишь? В радиометр вода небось попала, проверь, работает ли? — громче повторил он.
Лева, ни слова не говоря, поднялся и зашагал маршрутом, ступая по-медвежьи косолапо.
«Да, экземплярец! Второго такого не сыскать, — подумал Павел. — Только что душу изливал, а сейчас вдруг… С чего бы это он? И вправду сказано: чужая душа — потемки…»
И на следующий день, и через два, и через три дня Лева оставался таким же мрачным, невыносимо тяжелым человеком, каким был и раньше. Даже хуже: прежде, бывало, двумя-тремя словами за маршрут перекинется с Павлом, а теперь словно оглох и онемел. Изредка геолог ловил на себе его взгляд, от которого становилось страшно. Точно так же он смотрел и на других людей. «Какая-то… патология зла, — невольно поеживаясь, думал Павел. — Боже, а до конца сезона еще несколько месяцев! Может, опять поговорить с Турчиным?..»
Через несколько дней, как всегда в половине девятого утра, Павел подошел к Левиной палатке. Обычно Лева в это время покуривал, сидя на самодельной лавке, и поджидал геолога, чтобы идти в маршрут. Сейчас на лавке его не было, и Павел окликнул:
— Лева!
Никто не ответил, но из палатки доносились неясные шорохи. Павел поравнялся с маршруткой и откинул полог.
Лева лежал на животе и, морща лицо, бил себя по пояснице кулаками.
— Что, брат, прихватило?
Лева промычал в ответ невнятное.
Зима на Крайнем Севере, несмотря на лютую стужу, влияет на человеческий организм очень благотворно, а вот лето гнилое; особенно дает знать о себе радикулит, даже у людей богатырского здоровья начинают трещать суставы.
— Щас подымусь… — хрипло выдавил, наконец, из себя Лева.
— Да куда ж ты, милый, в таком состоянии в маршрут! — замахал руками Павел. — Полежи денек, может, отойдешь. Я к Турчину сбегаю, спрошу замену тебе.
— Да сказал же! Встаю щас, — сердито повторил Лева.
Но геолог все-таки пошел просить замену. Турчин был в камералке. Выслушав Павла, он подозрительно спросил:
— Может, он сачкануть надумал? Третьего дня Морван, рабочий Ланкова, тоже «захворал». А как все в маршрут ушли, он ружьишко за плечо да в тайгу белок бить подался.
— Нет, нет, Кондаков в этом отношении чрезвычайно честен, — убежденно сказал Павел.
— А ну, пойдем-ка глянем на твоего Кондакова.
«Сейчас наломает дров и совсем испортит мои отношения с Левой!» — испуганно подумал Павел, а вслух предложил:
— Не надо, не ходите. Я лучше один в маршрут пойду и рюкзак с образцами понесу.
— Одному в маршрут запрещено ходить инструкцией, — сухо ответил Турчин. — Что случись с тобой — я первым под суд пойду.
— Тогда я прошу вас… поделикатнее, что ли, с Кондаковым… У него очень тяжелый характер.
— Что он, институтка, чтобы поделикатнее? — усмехнулся начальник партии. — На сопли у меня нет времени.
В правильности своих решений и убеждений Турчин никогда не сомневался.