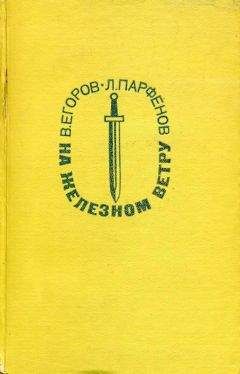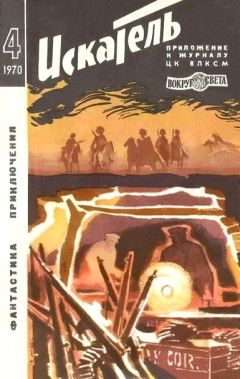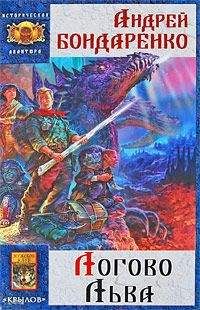— Ванюш, можно у вас переночевать?
— Ночуй. А что на Сураханской — пожар, что ли?
— Я из дому ушел.
— Это в каком смысле?
— С отцом поссорился. Из-за пиджака.
Михаил коротко поведал историю с пиджаком, нехотя упомянул о драке во дворе караван-сарая. Как ни хорошо он знал Ванюшу, реакция зятя оказалась совершенно неожиданной. Вскочил, хлопнул Михаила по плечу.
— За что это тут моего братца нахваливают? — певуче проговорила Анна, появляясь из-за перегородки. Из всех сестер Анна казалась Михаилу самой красивой. У нее все было крупно: и стан, и лицо, и губы, и глаза. Слегка вьющиеся пепельные волосы, туго затянутые на затылке в тяжелый пучок, казались слишком густыми.
Михаилу пришлось повторить все сначала. На сестру его рассказ произвел совсем другое впечатление.
— Батюшки! — ахнула она. — Час от часу не легче! Да ты о матери-то подумал, дубовая твоя голова?! Ведь она сейчас места себе не находит. Сказал хоть, куда идешь-то?
— Нет.
— И он еще тут рассиживается... Ты тоже хорош! — сокрушенно покачала она головой, обернувшись к мужу. — Вместо того чтобы на путь наставить мальчишку, он его хвалить взялся. Господи! — она села к столу и бессильно уронила на колени руки. — Видно, все мужики на одну колодку — хуже малых ребят. Слышь, Михаил, сейчас же иди домой...
— Погоди, погоди, Анюта, — Ванюша встал между сестрой и братом. — Его тоже надо понять. Крут твой папаша не в меру — это уж и говорить нечего. Пиджак ему весь свет застит. А я так скажу: молодец, Мишка, что не спасовал перед бандюгами... А пиджак — не живая душа, можно другой купить...
— Купил один такой! — в голосе Анны послышались сварливые нотки — дань мгновенному раздражению. — Ты вон сунулся, куда не следовало, — теперь ходишь инвалидом. Купи другую-то руку, приставь!..
— Молодец, парень! Ей-богу, молодец! Самого Рза-Кули с ног долой! Правильно, так и надо. Милиция-то наша, да и Чека не больно их беспокоят. А бандитам нельзя спуску давать — на голову сядут. Всем народом надо навалиться...
— Аня, ты это... ты давай меня ругай... Обо мне речь... Что ты за него взялась, он не виноват...
Анна выслушала Михаила с тем смешливым удивлением, какое у взрослых вызывают речи не но годам развитого ребенка. И вдруг, запрокинув голову, расхохоталась.
— Нашелся защитник... Ой, господи!.. Ну как есть ребята малые... Это ж надо...
Ванюша, смеясь, обнял Михаила.
— Ну, брат, вдвоем нас голыми руками не возьмешь — не дадимся.
— Да нет, на самом деле, — не сумев сдержать улыбку, заговорил Михаил, — чего она на тебя-то?
— А ты как думал? — Ванюша весело подмигнул жене, — Учить-то нашего брата надо? Ведь это пока холостой, полагаешь — умней тебя на свете нет, а женишься — враз докажут, что ты круглый дурак...
— Смотрите-ка, разговорился... Лучше бы подумал, как с этим чертоломом быть.
В тоне Анны не слышалось уже прежней строгости, а взгляд, которым она наградила мужа, свидетельствовал о полном примирении.
— Да как быть? — Ванюша искоса оглядел Михаила, будто оценивая. — Коли уж парень взбунтовался, пусть у нас переночует. Собери ему поужинать, а я пока слетаю на Сураханскую, мать успокою.
Михаилу постелили на диване. Заснул он мгновенно, лишь голову донос до подушки. Когда вернулся Ванюша, не слышал.
Егор Васильевич Донцов всю ночь ворочался, думал о детях. Не спала и жена его, Настасья Корнеевна. Раза два пыталась заговорить с мужем, но Егор Васильевич притворился спящим. Что ей скажешь? Сам будто в темном лесу, что к чему — не ведаешь. С дочерьми куда легче. А парни, — словно им шлея под хвост попала, — пули отливают один другого хлеще.
Был Егор Васильевич человеком строгих правил и от детей требовал безоговорочного послушания.
Происходил он из крестьян Тамбовской губернии. В Баку попал еще мальчишкой вместе с родителями, недавними крепостными князя Юсупова.
Жизнь не очень-то баловала Егора Васильевича, но, блюдя родительские заветы, бога помнил и всем, чего достиг, был обязан только себе, своей честности и прилежанию. Четырнадцатилетним мальчонкой привели его на промыслы — помогал катать бочки с нефтью. Призываться на цареву службу ездил в родную деревню Колодную, там под одно уж и женился на сироте.
Довелось Егору Васильевичу бедовать и в промозглых землянках и в гнилых бараках. Выпадали годы, когда, кроме пустой похлебки да пресных лепешек, никакой другой еды на столе не видел.
Из тринадцати детей, которых родила ему Настасья Корнеевна, выжило всего шестеро: два сына да четыре дочери. Михаил был последышем.
К тому времени, когда он родился, Егор Васильевич ходил в буровых мастерах и получал по тогдашним представлениям хорошее жалованье.
Из рабочего поселка Сабунчи перевез семью в город.
На Сураханской улице в доме фабриканта Лаврухина снял квартиру из трех комнат. Квартира была из самых дешевых, одна комната вовсе не имела окон, но Егор Васильевич души не чаял в новом жилье, — слава богу, не барачный закуток. А окон нет, так зачем они при электричестве? Щелкнул выключателем — светлей, чем на улице днем. По случаю купил обстановку: шкаф, комод, венские стулья, зеркало, никелированную кровать... Мебель была хоть и подержанная, но еще годилась. Двух старших дочерей выдал замуж. Анну — за деповского слесаря Ванюшку Завьялова, Марью — за телеграфиста Дрозденку со станции Баладжары. Зятья попались уважительные, в меру пьющие. Кое-какое приданое получили за женами. Не хуже, чем у людей.
Ванюшка Завьялов, любимый зять, с молодой женой устроился в полуподвале другого лаврухинского дома — на Воронцовской. Хлопотами насчет квартиры для молодых опять-таки занимался Егор Васильевич. А то разве бы поселил хозяин под собою невесть кого?
Старший сын, Василий, четыре зимы ходил в начальное городское училище. Потом Егор Васильевич взял его к себе на промысел. Думал «вывести в люди», то есть сделать из него бурового мастера.
Младшему уготована была совсем иная судьба. Егор Васильевич определил Михаила в гимназию, в младший класс. Утром в первый день занятий, увидев сына в полной гимназической форме с начищенными пуговицами, Егор Васильевич сказал, как отрезал: «Быть тебе инженером».
Нравилось старому мастеру, что жизнь его домочадцев заранее определена, поставлена на линию. И главным своим долгом он почитал утвердить их на этой линии, не дать свернуть. В молодости, да и в зрелом возрасте, он довольно натерпелся от всяких превратностей судьбы и теперь старался оградить от них детей.
Жизнь, однако, распорядилась вопреки его воле.
После февральской революции вдруг узнал: старший сын — большевик. О том, чтобы выйти в мастера, Василию и помышлять теперь нечего было. Какой же дурак-хозяин согласится поставить большевика на такую должность? Поставь-ка, он те намитингует!