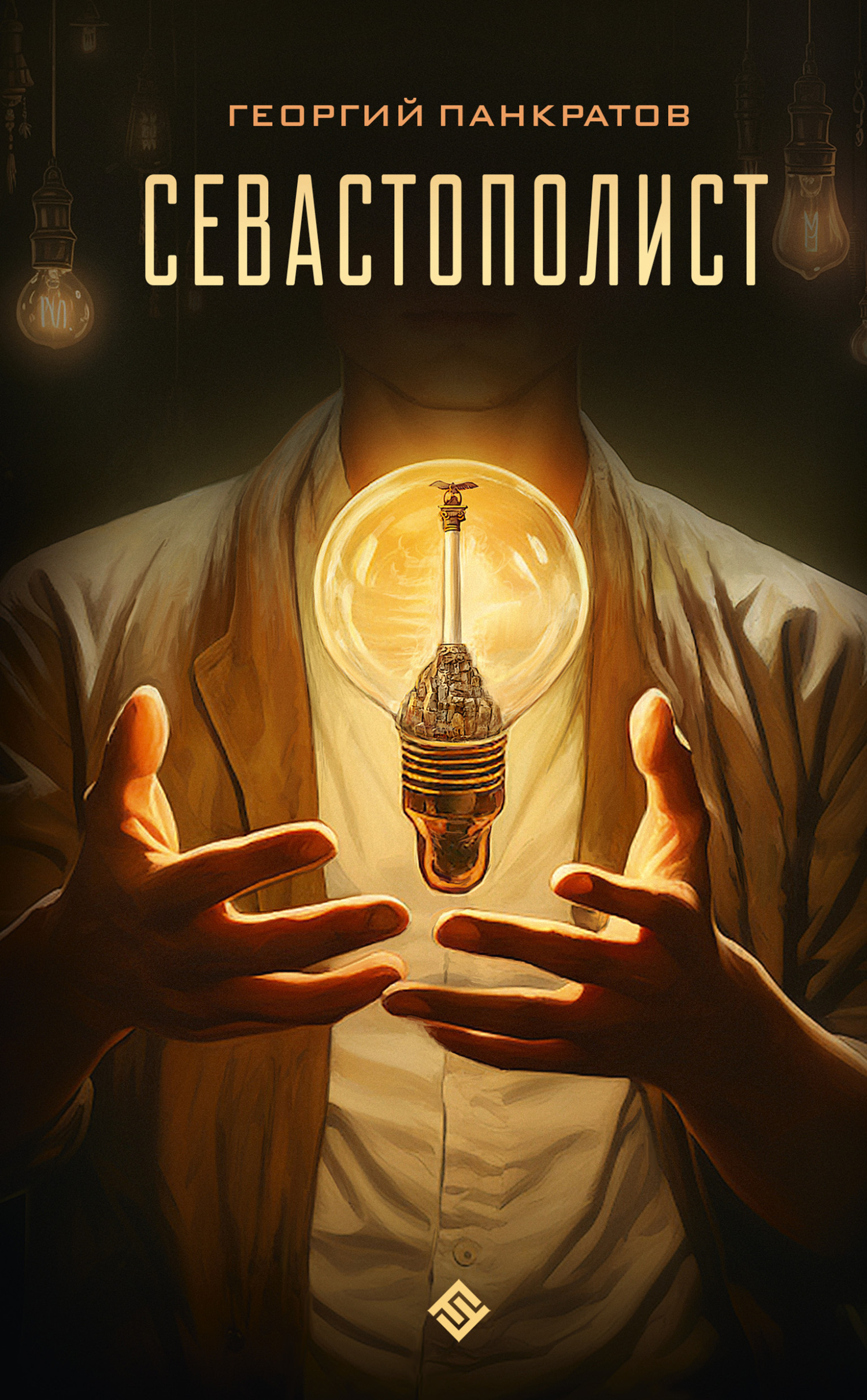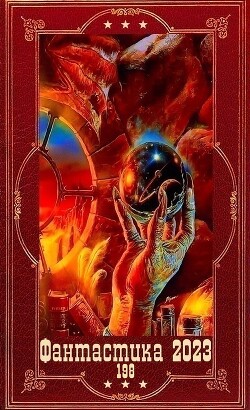кто его по-настоящему интересует, – это я.
Феодосия рассмеялась:
– Когда он кладет мне руку на колено, я совсем так не думаю… Пожалуй, вообще на заднее не сяду. С ним опасно.
– Перестань. Я говорю тебе: ему и дел других не надо, кроме меня. Всю жизнь крутился – и помочь, и просто поболтать. Я порой говорил: что ты еще делаешь, кроме как со мной тусуешься? Он: а ничего. Скучно, говорит, один или с этими, вообще не знаю, чем заняться… Нет у него других дел. Да и какие дела тут? – Я рассмеялся, почувствовав прилив внезапного удовольствия, такого любимого мной благостного расположения духа, спокойного, умиротворенного и счастливого, за которое и любил эти фиолетовые цветы. Правда, ощущение было совсем недолгим и появлялось далеко не всегда. – А ты что же? Хочешь вызвать во мне ревность?
– Накрыло? – спросила Фе.
– Что? Ах да, накрыло, накрыло. Наконец-то, – я радостно закивал головой.
– Это хорошо, – сказала она. – Нет, я хочу в тебе вызвать совсем другие чувства.
– Ты и так вызываешь. – Я непроизвольно икнул и вдруг почувствовал себя глупо. Ощущение благости сбилось, что-то пошло не так. Я цеплялся за него своим сознанием, но оно ускользало, на него выплывала тьма. Я почувствовал страх, тревогу. – Ну надо же было икнуть, ведь знал, что это собьет!
– Фиолент. – Она остановилась. Мы ушли уже довольно далеко от компании, я видел лишь машину и силуэты вдали. Нас никто не мог слышать. – Ты не задумывался, что мы уже давно не веселимся? Что сбой, как ты говоришь, – он настал не под кустом вовсе.
Как же я любил это смешное выражение! «Ты под кустом, что ли?» – подкалывал я Инкермана, завидев того с красными глазами или излишне активным. «Поехали под кусты» – так мы приглашали друг друга прогуляться и покурить. Но тогда, слушая Фе, да еще на сбое, я осознал вдруг: мы ведь не приезжаем сюда просто так. Мы перестали просто ездить-кататься, гулять, отдыхать. Точнее, нет, мы все это делаем, но обязательно курим куст. Почему я не замечал этого? И почему мы перестали отдыхать не под кустом? Почему его курение стало чем-то разумеющимся, очевидным? Даже Керчь, молчаливая и медленная, вечно застывшая в своих раздумьях, постоянно курила его с нами. Ей-то оно зачем, это же мы, дурачки, раздолбаи беззаботные, мы гнали тяжелые мысли, мы не хотели думать. Куст развлекал нас. А что он делал с ней?
Эти мысли пронеслись в голове за миг. Но, видимо, все их можно было прочесть по лицу – оно так изменилось, что Фе прыснула со смеху.
– Ты чего? – спросил я. – Ты же не курила.
Фе была единственной, кому не понравился куст. Поначалу она сидела с нами, выпускала дым, потягивала трубочку, которую мы с Инкерманом сделали сами из толстого ствола все того же растения. А потом сказала: «Нет», – и больше к ней не прикасалась.
– Видел бы ты себя! – ответила она и тут же посерьезнела. – Не думай, что я смеюсь над тобой. Но этот куст – он вытягивает из вас все соки жизни. Вы станете такими же, как он. Выжженными, безжизненными. Вам только кажется, что все по-прежнему. Что вы развлекаетесь, веселитесь. Вы часто ничего вообще не говорите. Ты можешь стать примитивным. Послушай себя, свою речь! Ты говоришь односложно, избегаешь всего серьезного, ты ничего не хочешь, тебя ничего не волнует. Понимаешь, о чем я?
– Ничего не хочу? – возмутился я. – Послушай, Фе, а чего тут можно хотеть? Я живу с недалекими, слежу за цветами, вспахиваю огород. А если я свободен – с тобой, моими друзьями, вами! Я люблю этот мир, наш город, но что здесь можно хотеть? Ты знаешь?
– Хотеть измениться, – сказала она. – Хотеть изменить жизнь в этом городе.
– Я обычный парень. И я проще, чем ты думаешь. Хочешь говорить о чем-то запредельном – иди обратись к Керчи… Я живу в этом городе, и мне не нравится, как здесь живут. Но разве можно жить как-то еще в Севастополе? Даже если захочу… Я не знаю, чего здесь желать, понимаешь? Я ничего другого не знаю – ничего, кроме того, что есть. И знаешь? – Мне хотелось как-то эффектно, ярко закончить, поставить жирную точку и закрыть этот разговор. Но ничего эффектного не находилось, и я произнес наконец: – Какая разница, если и так хорошо?
– Ты не хотел бы раздвинуть границы? – спросила Фе, и я увидел, как в ее глазах отразилась Башня, мне показалось, что там – над этой Башней в ее глазах – собрались тучи и сверкнула яркая молния. Я перевел взгляд на реальную Башню и не увидел ничего подобного.
– Раздвинуть линии возврата? – усмехнулся я. – Тебя не учили разве? Такого не случалось. Это невозможно. Ты не можешь взлететь, ты не можешь дышать под водой, ты не можешь передвинуть линию… Это наш мир, детка!
– Ты много куришь куст. Пока не подсел на него, ты не говорил «не могу», «не можешь». Это было не про тебя.
– Нет. – Я покачал головой. – Это просто жильца подбирается.
– Жильца – это начало жизни, – возразила она. – А ты говоришь как уже переживший, тебе на Правое море пора.
Она отвернулась и зашагала от меня прочь.
– Ну давай, – крикнул я. – Покажи, как раздвинуть границы! Пройди линию возврата! Расширь ее, давай, детка!
Я издевался над ней.
– Главное – это твои границы. Их и надо расширять! Тебе тесно в них. Нам всем тесно.
– О да! – воскликнул я. – Ты понимаешь то же, что и я. А я – то же, что и ты. Вот только что мы с этим будем делать?
– Не знаю, – отчаянно крикнула она. – Не знаю. Но куст – это не выход! Куст – это тот же небосмотр, только для тех, у кого совсем нет башки.
– Я простая песчинка на улицах этого города, – растерянно сказал я. – И вообще, хва…
– Взгляни на Башню, – вдруг сказала Фе. – Она входит в небо, как входит нож в масло. Это красиво, не находишь?
– Для горизонтального города – более чем. Есть на что поглазеть, есть куда съездить. В обнимочку сфоткаться. Хочешь?
– Фи! Мы уже сто раз так делали.
– Конечно, – пожал плечами я. – Но это же так прикольно.
– Так жизнь и проходит, – сказала девушка. – Что мы с тобой будем делать? Сначала породнимся, потом расплодимся, потом устанем от всего и отключимся. Перестанем даже на мол ходить. Ты забросишь свою машину, пересядем на троллейбус, а то и вовсе никуда не станем выезжать. Будем ждать на крыльце, прислушиваться: не слышен