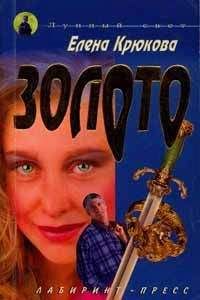– Это язык Острова, – царь склонился к ее уху. – Это наш с тобой язык, забытый тобой; а я его помню, ибо тогда, когда погибал Остров, я уже был взрослый и смышленый. Сколько тебе лет?..
– Я не знаю, царь, – она обернулась к нему. Они стояли уже на палубе корабля. Ее ноги обжигали нагревшиеся на солнце доски палубы. – Моя мать отмечала мои года у меня на руке. Каждые три года она раскаляла на огне маленький железный брусок, прижимала его к внутренней стороне руки. Вот здесь, к тайному месту, – она подняла руку, рукав сполз к шее. На внутренней стороне плеча виднелись маленькие белые шрамы. Последний шрам был совсем свежий, еще красноватый, воспаленный; ожог еще не совсем зажил. – Сосчитай!
Царь сосчитал. Его глаза засияли нежностью, когда он снова поглядел на нее.
– Тебе только пятнадцать лет, – сказал он и опустил ее руку, поправил рукав. – Здесь пять огненных зарубок. Милая девочка, я старше тебя не на одну жизнь – на две, а быть может, на три. Я страшне тебя на бесконечность; чем отплачу я богам за счастье держать тебя на руках, как ребенка?..
Она ответила ему таким же сияющим взглядом. Он хлопнул в ладоши.
– Эй! Слуги! Приготовьте нам помещенье внутри корабля. Царские покои должны быть убраны и украшены сегодня с подобающей роскошью. Я нашел возлюбленную свою, и она должна радоваться, видя богатство мое! – крикнул он, и на его голос стали сбегаться люди, глядящие на повелителя с любовью. – Живо делайте нам все! Корзины с виноградом – тоже к нам, чтоб стояли рядом с нами и источали запах; ягоду обмойте ключевой водой, что в трюме, в больших амфорах!.. Застелите ложе тонким сидонским шелком, шкурами барсов и леопардов!.. Сегодня я праздную праздник любви своей. Не всякий раз человеку выпадает счастье любить. Любовь драгоценна, как тирский рубин, и неуловима, как северный Борей, свистящий пронзительно над бурным морем. Сегодня я поймал ее. Сегодня она – моя. Но ведь и я – ее. Я ей принадлежу. Сегодня, отныне и навсегда ваш царь, люди, счастлив! И, счастливый, я радость сделаю и для вас! Что мне сделать для вас?!..
Слуги, мельтеша, бега, готовя царю и наложнице ложе и ужин, смущенно улыбались, отворачивали лица. Им казалось: когда они смотрели на любящих, они посягали на любовь. Настоящая любовь – это храм. Туда входить надо благоговейно, складывать руки в молитве. И отворачиваться в смущенье от священного. О священном не говорят. Ему лишь молятся и благословляют его.
Царь протянул ей руку. Она вложила свою руку в его и обернулась. Она увидела, как рабы отвязывают канаты от больших деревянных колов пристани, как вытягивают просмоленные канаты на палубу; как гребцы отталкиваются веслами от края пристани, как у борта плещется густо-синяя, маслянисто играющая вода с золотыми солнечными бликами; как корабль отчаливает, отгребает, уходит, отплывает медленно и печально от пристани, у которой постоял немного в скитальной жизни своей.
– Мы уже отплыли, царь?..
– Да, сияющая звезда моя.
– Мы больше… не вернемся сюда никогда?..
– Никогда, счастье мое. Забудь горечь. Ее не должно быть у тебя под языком. Только сладость должна иметь ты отныне под языком. Никогда не возвращайся дважды в одно и то же море, где купалась. Никогда не встпай в одну и ту же текущую реку. Море уже другое, и река другая. И ты тоже другая. Ты же теперь другая, правда.
Она вспомнила, как он целовал ее в грудь. Она захотела, чтобы он опять поцеловал ее так же.
Он понял ее. Он сказал ей глазами: так и будет, как ты хочешь.
Он повел ее, держа за руку, в корабельные покои, приготовленные для них, и ее ступни шли по раскаленным доскам, сочащимся смолой, будто по углям костра.
Он сам снял с нее одежды.
Он стал снимать с нее одежды осторожно и бережно. Будто б он был и не царь вовсе, а прислужница-портниха, примерявшая сметанное тонкой нитью платье – и вот она снимает платье, боясь разорвать тонкий шов, и бережет изделье, и затаивает дыханье. Она тоже стояла, не дыша. Подняла покорно руки. Он стащил с нее рабское рубище, и ее тело, освобожденное от навешанных на него тряпок, мгновенно охватилось жаром прокаленного корабельного нутра, запахом смолистых досок, ароматом курений, что зажгли заботливые слуги. Она оглядывалась кругом. Ковры увешивают стены, устилают полы. Сундуки открыты, и из них сияют самоцветы, накупленные царем в разных странах по берегам Срединнного моря; а может, он даже плавал и за Срединное море, на звездный Запад, туда, за Золотые Столбы, выходил в открытый Великий Океан, где раньше, по рассказам матери, возвышался их погибший Остров. Много земель видел ее царь, и много сокровищ собрал; и вот теперь он все сокровища бросает к ее ногам. Он встал на колени перед ней, созерцая ее снизу, будто она была статуя в храме. Он погладил ей грудь и талию ладонями. Его ладонь легла и туда, в самый низ живота, где золоторунные нежные волосы прикрывали средоточье влаги и стыда.
Он встал с колен, погладил ее по щеке.
– Смотри, тут стоят чаны с водою, с горячей и холодной, – он показал на два чана около ложа; от одного из чанов поднимался пар, он был неплотно укрыт деревянной крышкой. – Рабы согрели воды, чтобы я мог помыть тебя. Я напущу в воду щелочи, и вся твоя грязь сойдет с тебя. Какое счастье, что тебя не били батогами. Твое тело чисто, без следа побоев. Тебя часто били?..
– Нет, – махнула она головой. – Нет, не часто. Я убегала.
– Умница, что убегала. Вставай вот в этот чан сначала, там где горячая вода. Не бойся, ты не обваришь кожу. Я попробовал рукой, эта вода как раз для того, чтобы смыть грязь с тела. Твео тело божественно, как и твоя душа. Душа светится в твоих глаза. Твое тело тоже будет светиться. Оно будет светиться всегда. Полезай!
Он приподнял ее под мышки, поставил в чан. Она ойкнула, ощутив жар воды; потом ее ноги привыкли, и она, следуя приказу его повелительных рук, уселась в чан, и вода обняла ее плечи. Царь достал губку, заботливо положенную рабом рядом с чаном, пузырек со щелочью, вылил щелочь в воду. Стал тереть губкой ее тело, давно не видевшее бани. Окунул ее спутанные волосы в воду.
– Они тебя не мыли, – сказал он гневно. – Они заморили тебя. Ты должна жить другой жизнью. Ты будешь мыться каждый день в бане, плескаться в бассейнах с чистой колодезной водой; ты будешь принимать серные ванны. Я прикажу делать тебе серные ванны. Я прикажу делать тебе ванны из молока и из крови только что убитых серн.
– Не надо из крови животных! – вскрикнула она испуганно; он тер ее спину губкой до красноты, глядел, как ее кровь приливает к коже. И ее лицо покраснело тоже. Он наклонился и расцеловал ее, как ребенка, в розовые щеки.
– Все, хватит, чиста я уже…
Он вынул ее из чана с кипятком; она дрыгала ногами; опустил в чан с холодной водой, обмывая ее чистой и холодной ключевой водой из амфор, стоявших в холодном трюме, и она вскрикнула: «Ах!..»; вытащив из холодной воды, улыбаясь ее ребячьему испугу, обернул тончайшей дамасской простыней. Промокнул ее волосы. Сбросил с нее простыню, и она явилась перед ним чистая, порозовевшая. Он нашел в развале пузырьков, связок жемчугов, россыпи браслетов, гемм и печаток медную расческу, стал расчесывать ее спутанные волосы. Она завертела головой, засмеялась.