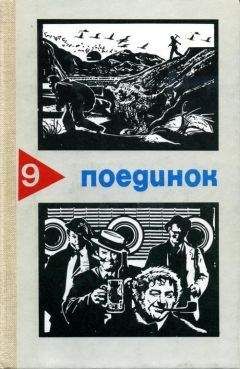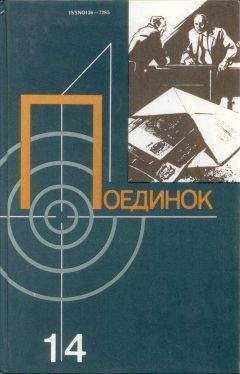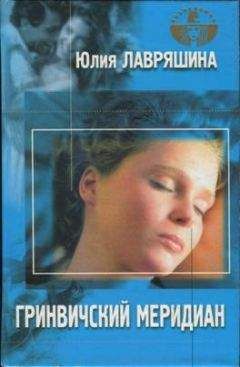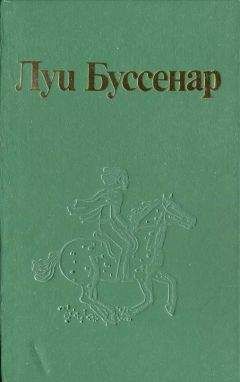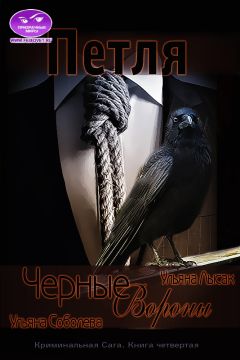Время по-прежнему тянулось, будто резиновое. Гусев успел дорассказать свою историю и начал в нетерпении поглядывать на лейтенанта, потому что не привык на службе стоять просто так, без дела. Вот уже и маляры покинули свои подмостки, должно быть, отправились перекусить или передохнуть. Следом за ними спустился и паренек в легкомысленной газетной пилотке, поставил ведро со шпаклевкой к фанерной стенке, совсем неподалеку от денег. Ковалев напрягся. Маляр повертел туда-сюда белесой головой, полез в карман, закурил. Снова оглянулся по сторонам, словно отыскивая кого-то.
В это время внизу, у самого пола, видимо, плохо прибитые фанерные листы, разгораживавшие два зала, разошлись, и в проеме показалась рука, сжимающая продолговатый сверток. В следующий миг пальцы разжались, пакет оказался на заляпанном побелкой полу, а рука, мелькнув тугой белой манжетой, убралась. Листы фанеры соединились.
Гусев даже подался вперед, готовый немедленно начать действовать, но лейтенант незаметно осадил его: стой и не спеши. Пограничник должен уметь выжидать, в этом тоже его сила.
Вдруг Ковалев увидел, как паренек-маляр, хорошо видимый Ковалеву, докурил свою сигарету, затоптал окурок и еще раз, уже медленно, оглядел зал. Потом он теснее прижал ведро к стене и заспешил вслед за ушедшими девушками.
— Наблюдайте за пакетом и деньгами, — приказал Ковалев солдату. — Потом обо всем доложите. Я — в накопителе.
Унимая гулко бьющееся сердце, сдерживая поневоле участившееся дыхание, Ковалев вошел в накопитель, отгороженный от общего зала и различных служб временной фанерной перегородкой до потолка. Обычно Ковалев избегал появляться здесь без надобности, потому что некоторые излишне нервозные и подозрительные иностранцы заранее ждали от этих загадочных русских какого-нибудь подвоха и незаметно, исподтишка фиксировали каждый шаг пограничного офицера; некоторые из них, пряча глаза, в душе желали, чтобы он поскорее покинул помещение.
На этот раз народу в накопителе было немного. Две дамы в строгих, неуловимо похожих деловых костюмах с глухими воротами под горло, сидели в ожидании своего багажа на полужестком диванчике, будто в парламенте, и важно вполголоса беседовали.
«Не по погоде одежда, — посочувствовал им Ковалев. — Жарко сейчас в кримплене».
Ковалев поневоле примечал профессиональным взглядом всякую мелочь. У той, что постарше, подремывал на коленях шоколадно-опаловый японский пекинес с приплюснутой морщинистой мордочкой и как бы вдавленным внутрь носом. Крошечной собачке не было никакого дела до журчащих звуков разговора хозяйки и ее собеседницы. Невнятный людской гомон, смешанный с заоконным аэродромным гулом, тоже мало беспокоил породистое животное, и пекинес невесомо лежал на хозяйских коленях, словно рукавичка мехом наружу.
Возле диванчика, неподалеку от дам, склонился над распахнутым кейсом тучный потный мужчина, по виду маклер или коммивояжер. Зачем-то присев на корточки, он перебирал кипы бумаг в своем пластмассово-металлическом чемоданчике с набором цифр вместо замков; шевеля губами, вчитывался в развороты ярких реклам или проспектов и собственных раритетов. Галстук у него сбился на сторону, словно мужчина только что оторвался от погони и сейчас наспех ревизовал спасенное им добро.
На Ковалева, прошедшего неподалеку, «коммивояжер» даже не поднял глаз.
Широкое окно посреди накопителя было обращено ко взлетно-посадочной полосе, и около него, сплетя за спиной длинные пальцы, неподвижным изваянием застыл человек спортивного склада. Ранняя седина выделялась в его волнистой шевелюре. Мужчина пристально наблюдал за тем, как в отдалении то и дело вихрем проносились самолеты различных авиакомпаний.
Вот мужчина повернулся, явив Ковалеву чеканный, как на медали, профиль лица, боковым зрением цепко охватил мало в чем изменившуюся обстановку зала и опять вернулся к прежней позе, лишь сверкнули из-под обшлагов пиджака дорогие запонки. Во всем его облике ясно читалась единовластная уверенность в себе и полнейшее равнодушие к происходящему вокруг.
«Такие должны хорошо играть в гольф и лихо водить машину», — подумал Ковалев, вспомнив мимоходом какой-то не то английский, не то американский фильм.
Не было у Ковалева ни малейшего желания угадывать среди прочих иностранцев единственного, нужного ему человека, подозревать из-за одного всех, потому что в большинстве своем это были нормальные здравомыслящие люди, многие из которых еще помнили последнюю опустошительную войну или, во всяком случае, знали о ней хотя бы понаслышке. Но кто-то из них, занятых сейчас своими будничными делами, пытался, словно мышь, воспользоваться ничтожным просветом, щелью, чтобы совершить нечто противозаконное, идущее во вред государству и, таким образом, во вред ему самому, Ковалеву.
Примириться с этим Ковалев не мог.
Он продолжал наблюдение. Сцепленные за спиной, узловатые в костяшках пальцы иностранного пассажира и напоминали те, что на мгновенье мелькнули в отжатом проеме фанерного стыка, и были отличны от них. Чем? Размером, формой?.. Лейтенант, как бы фотографируя руки до мельчайших подробностей, до малейшей жилки, сравнивал и сравнивал запечатленное в памяти и видимое воочию; он боялся ошибиться.
Словно почувствовав на себе посторонний взгляд, мужчина расцепил руки, молча и, как показалось лейтенанту, презрительно скрестил их на груди.
Ковалев поспешил отвернуться.
Его внимание привлек сначала бородатый не то студент, не то просто ученого вида пассажир, по слогам читавший согнутую шалашиком книжку из серии ЖЗЛ об Эваристе Галуа, название которой Ковалев прочел на обложке. Время от времени «студент» поднимал глаза и, не переставая бубнить, исподлобья окидывал зал, находил какую-нибудь точку и на ней замирал, подолгу уходил в себя. Толстая сумка, висевшая у него через плечо, была раздута сверх меры.
Чуть скосив глаза, Ковалев увидел маленького вертлявого человечка в мягких замшевых туфлях и болотного цвета батнике, надетом явно не по годам. Заказав себе в небольшом буфете, набитом всякой всячиной, порцию апельсинового сока, мужчина сначала удивленно разглядывал отсчитанный ему на сдачу металлический рубль с изображением воина-победителя, а потом гортанно начал требовать себе лед.
— Эйс, битте, льёт, — тыча пальцем в стакан, требовал он попеременно на разных языках. — Льёт, а? Нихт ферштеен? Айс!
Явный дефект речи не позволял ему выговаривать слова четко, и Ковалев волей-неволей улыбнулся: уж очень похоже было английское «айс» на вопросительное старушечье «ась?». Сам иностранец тонкости созвучия не улавливал, и оттого еще забавней выглядело его лицо с недовольно надутыми губами и сердитым посверкиваньем глаз.