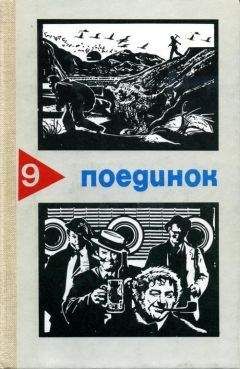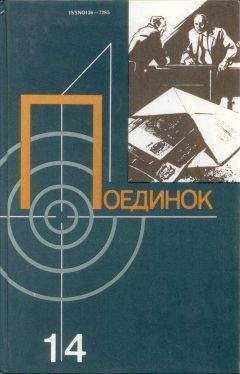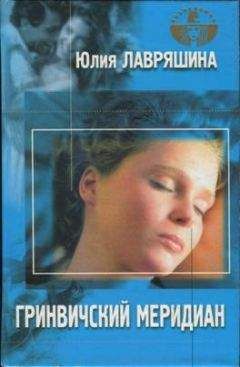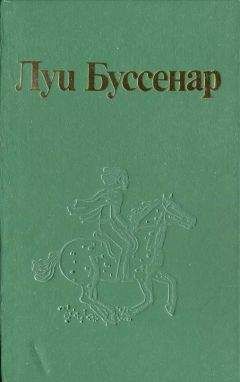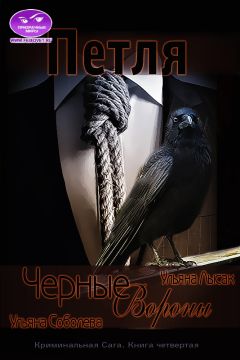Чуть скосив глаза, Ковалев увидел маленького вертлявого человечка в мягких замшевых туфлях и болотного цвета батнике, надетом явно не по годам. Заказав себе в небольшом буфете, набитом всякой всячиной, порцию апельсинового сока, мужчина сначала удивленно разглядывал отсчитанный ему на сдачу металлический рубль с изображением воина-победителя, а потом гортанно начал требовать себе лед.
— Эйс, битте, льёт, — тыча пальцем в стакан, требовал он попеременно на разных языках. — Льёт, а? Нихт ферштеен? Айс!
Явный дефект речи не позволял ему выговаривать слова четко, и Ковалев волей-неволей улыбнулся: уж очень похоже было английское «айс» на вопросительное старушечье «ась?». Сам иностранец тонкости созвучия не улавливал, и оттого еще забавней выглядело его лицо с недовольно надутыми губами и сердитым посверкиваньем глаз.
Знакомая Ковалеву буфетчица, Наташа, которой гордость не позволяла объяснить покупателю, что холодильник сломался и пока его не починит монтер, льда нет и не будет, — эта Наташа безупречно вежливо, старательно прислушивалась к переливам чужого голоса, как бы не понимая в нем ни единого слова.
Недовольно бурча, иностранец в батнике побрел от полированной, сияющей никелем стойки буфета, на ходу сунул нос в стакан, подозрительно принюхался к его содержимому и на том как будто успокоился. Апельсиновый сок ему пришелся по вкусу.
Другие пассажиры были менее колоритны, почти ничем не привлекли внимания офицера, и, глядя на их обнаженную аэропортом жизнь, Ковалев напряженно думал: кто? Кто мог осуществить тайное вложение? Коммивояжер? Любитель гольфа? Или «студент»? А может, этот, в батнике? Все они с одинаковым успехом могли проделать нехитрую манипуляцию со свертком — и ни о ком этого нельзя было сказать с достаточной уверенностью. Любое предположение заводило Ковалева в тупик, а он все равно упрямо продолжал размышлять. Две чопорные дамы, сидящие в накопителе, словно в парламенте, естественно, отпадали, потому что с их надменным видом никак не вязалось понятие грязного дела, недостойного их высокого положения. Благодушный семьянин с двумя хорошенькими девочками-близнецами, расположившимися неподалеку от дам, или восковолицый священник в долгополой сутане, выхаживающий по периметру накопителя, тем более не могли быть заподозрены.
И все же сверток поступил в общий зал именно отсюда, из накопителя…
Надо было как-то оправдать свое присутствие здесь, в месте, удаленном от пограничного и таможенного контроля, и Ковалев купил в буфете пачку каких-то разрисованных импортных сигарет, хотя терпеть не мог табачного дыма.
— Вы сегодня удивительно хороши, — он обратился к Наташе подчеркнуто на «вы».
Девушка поправила крахмальную наколку и сообщила лейтенанту:
— К концу недели завезут «Мальборо». Оставить?
Ковалев покачал головой: нет, не надо. Но невольно улыбнулся в ответ на ее заботу. Со стороны можно было подумать, что лейтенант-пограничник зашел сюда с единственной целью — поболтать с хорошенькой буфетчицей. Что ж, тем лучше. Он с улыбкой отдал Наташе честь и озабоченно направился в самый угол зала, где в стороне от других примостилась на стуле сухопарая миссис, почти старуха, которой уже ни к чему были ни пудра, ни крем, ни прочие атрибуты молодости.
Она прибыла в Союз с предыдущим рейсом, минут тридцать назад, но все еще не отваживалась покинуть зал и выйти на воздух. При посадке самолета ей стало дурно, стюардесса без конца подносила ей то сердечные капли, то ватку с пахучим нашатырем.
В аэропорту занемогшую пассажирку ждал врач, но от помощи она отказалась, уверяя, что с нею такое бывает и скоро все само собою пройдет. Просто ей нужен покой — абсолютный покой и бездействие, больше ничего.
Она сидела под медленно вращающимися лопастями потолочного вентилятора, вяло обмахиваясь остро надушенным платком. Весь ее утомленный вид, землистый цвет лица, кое-где тронутого застарелыми оспинами, нагляднее всяких слов говорил о ее самочувствии. Возле ее ног дыбились два увесистых оранжевых баула ручной клади, и было любопытно, как она сможет дотащить их до таможенного зала.
Ковалев остановился напротив, учтиво спросил по-английски:
— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Увядающая миссис натужно улыбнулась:
— О нет, благодарю, мне уже лучше. Весьма вам благодарна.
Белая батистовая кофточка колыхалась от малейшего движения иностранки. Но поверх кофточки, усмиряя воздушную легкость батиста, пряча под собой тщедушное тело, громоздилось нелепое черное кимоно с широкими рукавами, делавшее женщину похожей на излетавшуюся ворону.
Ковалев устыдился столь внезапного, неуместного своего сравнения, будто оно было произнесено вслух и услышано; но и отделаться от навязчивого образа оказалось не так-то просто. Он поспешно кивнул пожилой иностранке и легким шагом пересек по диагонали продолговатый зал накопителя.
Теперь у Ковалева не оставалось никакой уверенности, что таинственный владелец пакета может быть обнаружен. И потому червячок неудовлетворения, почти юношеской досады точил и точил его душу, проникая глубоко, в самое сердце. Уязвленное профессиональное самолюбие не давало покоя, звало к активным действиям, а что именно предпринять, Ковалев не знал.
И словно в утешение ему, каким-то чудом вызванная из недр памяти яркой звездочкой взошла в потемках души внезапная радость: теперь их на земле трое — он, жена и малышка. Дочь… Как они ее назовут? Кем воспитают?..
Еще давным-давно, классе в четвертом или пятом, Василий смотрел в театре чудесную сказку «Снежная королева». Он до слез жалел, что ему досталось от родителей такое неинтересное имя, и тогда же, жалея себя, решил, что, если в будущем у него появится дочь, он назовет ее Гердой. Ну, а если сын, то Кеем…
Ковалев усмехнулся: детство все, наивное детство. Сейчас сплошь и рядом Денисы да Ирины, как у Ищенко, да еще Светочки.
Хотя и с трудом, он заставил себя на время не думать о дочери, тем самым не позволяя себе расслабиться и размякнуть, потому что невозможно было совместить яркий сполох звезды — рождение дочери, его продолжения на земле, — с тем, что его повседневно окружало, что приучило на многое, очень на многое смотреть совсем иными глазами, чем все. И, пожалуй, впервые его кольнуло покуда безотчетное, но явственное отцовское чувство тревоги за судьбу дочери, за ее будущее. Ведь это на нее, познавшую лишь живительное тепло материнской груди, были нацелены рыла нейтронных бомб, на нее обращали яд возможной новой войны невидимые головорезы.
И с этой новой для себя мыслью, с тревогой, подступившей к самому сердцу, Ковалев поспешил к начальнику контрольно-пропускного пункта.