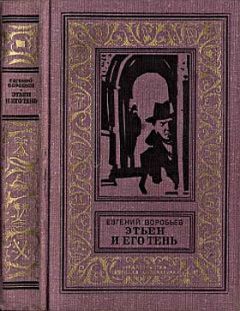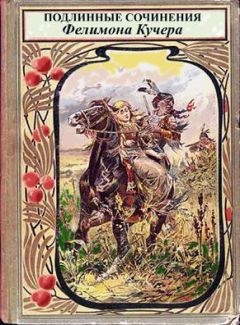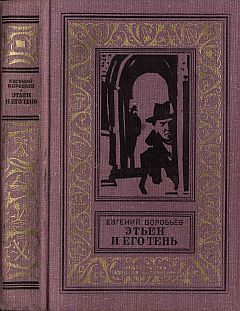По набережной идут Этьен и Старик. Оба в форме двадцатых годов — остроконечные шлемы, шинели с «разговорами». У Старика на петлицах три ромба.
Старик отстает на несколько шагов от Этьена, критически приглядывается к его походке.
— А тебе пора отвыкать от строевой выправки, — говорит Старик строго.
— Стараюсь, Павел Иванович. Не получается.
— Отвыкнешь. И фрак научишься носить. И цилиндр. — Старик остановился. — А вот притворяться в чувствах потруднее.
— Ну и дела, — ухмыльнулся Этьен. — Позавчера — комиссар бронепоезда. Вчера — слушатель академии. Сегодня — летчик. А завтра — коммерсант? — Этьен попробовал сменить походку на более свободную. — Ну как?
— Чуть-чуть лучше, — подбодрил Старик и продолжал серьезно; — Ты и завтра останешься летчиком. Летчиком свободного полета! Ты должен будешь видеть дальше всех и немножко раньше, чем увидят другие. И коммерсантом ты станешь не простым. — Старик рассмеялся и хлопнул Этьена по спине. — Бальзаковский банкир Нюсинжен — щенок по сравнению с твоим Кертнером!..
Подошел шуцман, подозрительно пригляделся — не собрался ли ночной прохожий топиться? Слишком долго смотрит в воду.
Легкая усмешка мелькнула на лице Этьена, и он пошел дальше.
Навстречу ему, пристукивая деревянной ногой, шел по аллее пожилой солдат в кителе, с крестами и медалями времен Вильгельма.
— Гуте нахт, майн герр.
— Гуте нахт.
«Этот доковыляет до дома, снимет на ночь протез, чтобы культя его отдохнула, — невесело подумал Этьен. — А я и во сне не имею права забывать, что я Кертнер».
Едва войдя в сад, он присел на скамью, снял шляпу и подставил лоб теплому ветерку, который доносил дым из печных труб.
В Берлине еще топили; здешний климат — не чета миланскому…
Размышлениям в тишине мешал мусорщик, который топтался где-то рядом на дорожке, усыпанной гравием, и в такт своим шагам шваркал метлой, потом приблизился вплотную к скамейке, с жестяным грохотом открыл и закрыл ящик для мусора — наводил в Тиргартене ночной орднунг…
— Вы сели на чужую скамейку.
— Разве здесь требуется плацкарта?
— Скамейка только для евреев. Если вы ариец, то…
— Откуда мне было знать? — Этьен лениво встал. Он знал, что для евреев здесь в скверах и парках возле мусорных ящиков выделены скамейки ядовито-желтого цвета. — Ночью все скамьи серы. Фонари не горят. Темно здесь…
— Берлин живет очень экономно.
Этьен кивнул мусорщику, надел шляпу и поднял воротник.
Ему не было холодно, но он продрог сердцем. Он в равной степени чувствовал себя сегодня трагически одиноким и в ресторане «Валькирия» и на скамейке в Тиргартене…
Кертнер выехал из Берлина утренним поездом. Ему заказана каюта первого класса от Гамбурга до Осло на небольшом, но быстроходном пароходе «Нибелунг».
Приближаясь к Норвегии, «Нибелунг» долго лавировал в хаосе островков, долго шел по узкому фиорду, который глубоко вдается в материк. Фиорд кишмя кишел яхтами, а чайки стлались над водой, как метель.
Для порядка Кертнер представился в австрийском посольстве. Еще до обеда он ознакомился с норвежским филиалом «Нептуна», с географией и оборотом фирмы и даже успел принять участие в испытаниях какого-то аккумулятора.
Однако не только ради своей деловой репутации приехал Кертнер в Норвегию: он привез с собой весьма крупную сумму рейхсмарок.
Формально говоря, будучи в Германии, он мог перевести рейхсмарки на текущий счет «Эврики» в итальянском «Банко ди Рома» и на свой личный счет в «Банко Санто Спирито». Но подобный перевод расценивался тогда в Германии как непатриотический поступок. Подлинный патриот не позволит себе ухудшать валютный баланс, подрывать экономику фатерланда. Можно было не сомневаться, что о таком крупном переводе за границу сразу узнают где следует, — существует специальный финансовый сыск.
Везти же рейхсмарки с собой в Италию Этьен тоже не мог. Ни в одном итальянском банке не должны знать о немецком происхождении столь крупной суммы.
Что оставалось делать? Следовало оформить перевод в итальянский банк из любой страны, только не из Германии.
Норвежский банк оказался весьма удобным посредником. Вся операция заняла не больше получаса: рейхсмарки трансформировались в норвежские кроны, которые на днях будут переведены на валютный счет Кертнера в миланской конторе «Банко Санто Спирито»…
А после обеда Кертнер направился с рекомендательным письмом Теуберта в норвежский филиал «Центральной конторы ветряных двигателей». Управляющий ждал гостя; видимо, он получил от Теуберта телеграмму. Управляющий рассказал о том, что в ближайшие месяцы ожидается значительное увеличение оборота фирмы. Они разослали по многим адресам следующее письмо:
«Многоуважаемый друг нашей фирмы! Начало летнего сезона поставит перед Вами вопрос о пополнении Ваших складов. Наш ответственный сотрудник, только что возвратившийся из Германии, привез выгодные предложения различного рода, которыми Вы, безусловно, заинтересуетесь. Мы были бы Вам весьма обязаны, если бы Вы нас посетили в ближайшие дни.
В ожидании Вашего посещения остаемся с германским приветом. Хайль Гитлер! (Подпись)».
Кертнер сделал управляющему комплимент: готов учиться у норвежского филиала деловой оперативности!
Пароход в Гамбург отправлялся лишь завтра вечером, и таким образом у Кертнера оказался свободный день. Он мог посвятить весь день прогулке по Осло с чувством облегчения. Он правильно решил трудную задачу с норвежскими кронами и рейхсмарками, потерявшими в весе.
Не торопясь шел он по Драмменсвейен, и ему нравилось, что каждая из поперечных улиц одета в неповторимый зеленый наряд. Он пересек улицы, сплошь обсаженные то елями, то березами, то каштанами, то соснами, то липами. Он слышал, что в Осло отлично вызревают яблоки, груши и помидоры. «Вот что значит Гольфстрим! Осло на одной параллели с нашим Ленинградом, ничуть не южнее».
У Национального театра, где стоит памятник Ибсену, он спустился в метрополитен. Снаружи к вагонам метро приделаны зажимы для лыж, в это время года ненужные.
В Осло всего несколько подземных станций, а затем поезд вынырнул из тоннеля и через десяток километров вскарабкался на макушку горы Холменколлен. Там высится трамплин для прыжков на лыжах, пользующийся мировой известностью. Но весенним днем здесь было пустынно, скучно, и тем же метропоездом Кертнер вернулся в город. Сошел на площади Валькирий, его отель по соседству.