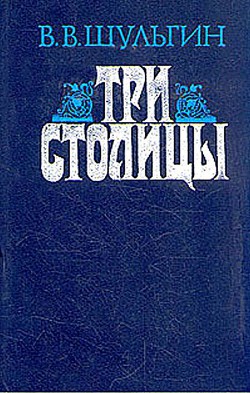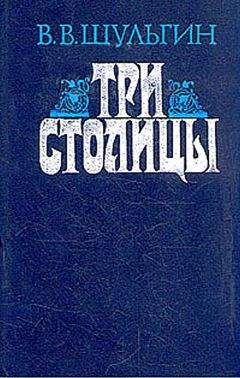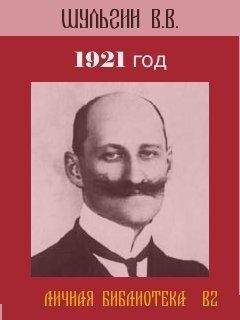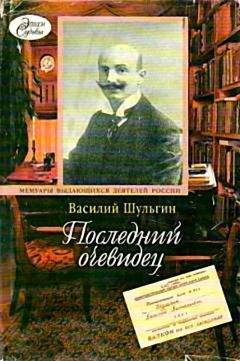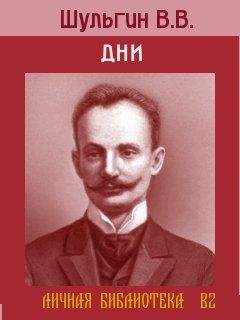* * *
И мне захотелось поставить один вопрос этому старому дому, передумавшему кое-что на своем веку:
Увижу ль я, друзья, народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря? [15]
* * *
Он не сразу ответил… Помигал старыми глазами сквозь изморозные окна. Но через некоторое время взгляд его установился, став твердо-ясным.
И тогда старый дом стал говорить…
* * *
…Я говорю то, что говорил пятьдесят лет. Я говорю то, что вы, нынешние, никак не можете в толк взять. Все равно, — я скажу еще раз… Я скажу новыми словами мысли, которые старше не только меня, но самого старого дома на свете…
* * *
…Изгнанники всех концов земли! Мечтая о добре, не будьте сами злы. Ибо не могут быть сухая вода, светлый мрак, холодное тепло и белое не может быть черным…
…Есть два вихря сейчас на земле. Один вихрь «белый», т. е. вихрь Добра, вихрь к Богу, другой «черный» (или «красный», что одно и то же) — вихрь Зла, вихрь к «черту».
Так вот нельзя вам, изгнанники, смешивать «французское с нижегородским»…
Нельзя вам мечтать о кровавой расправе, о личной мести и о тому подобных, кой-кому из вас приятных предметах…
Когда вы это делаете, то включаетесь в вихрь Зла. Думая, что служите своему делу — Белому, Правому, Божественному, Святому, Созидательному, Хорошему, Светлому, Чистому, — на самом деле крепите Черное, Неправое, Сатанинское, Грешное, Разрушительное, Гадкое, Грязное… Крепите, изгнанники, потому что мысли о кровожадном пире над поверженными людьми, кто бы они ни были, есть мысли из «их» царства, о котором сказано:
«Здесь Я владею и люблю…»
…Когда кровавые мысли завладевают, с вами делается то, что бывало с ведьмами в старину. Эти мысли лучшие кони, чем самая прекрасная метла… Оседлав их, вы в то же мгновенье мчитесь на «шабаш». И имея во главе не Алексеева, Корнилова, Деникина, Врангеля, не великого князя H. H., а Ленина со свитой, несетесь в вихрь вокруг жертвенника Черту…
Окружая пьедестал…
* * *
Слушай! Приходили сюда ко мне в 1919 году деникинцы. Воевали они за Белое против Красного. Но Дьявол распалил их чувства, и включились некоторые из них в вихрь Зла. И созданный не только Красными, но и Белыми, этот вихрь в конце концов пожрал их, Белых. Восторжествовало Зло и те, кто Злу служат.
* * *
…Чтобы поднять мощный смерчь Добра, нужно отречься от злобы. Я, старый дом, знал одного сильного человека: это был Столыпин. Его душе злоба была чужда. Это не помешало ему, изгнанники, сделать то, что не удалось вам, — раздавить революцию (первую)… Он при этом казнил тысячи две негодных людей. Ни к одному из них он не чувствовал злобы, личной злобы. И каждого, казня, пожалел.
Не говорите так: не все ли равно?
Нет, не все равно. Тут такая же разница, как между ножом врача и кинжалом. Оба режут, но кинжал убивает, а скальпель — целит… Иной правитель казнит, содрогаясь от скорби: этот может быть святым. Другой казнит, смакуя, бахвалясь, — он гнусный убийца… Первый включает свою страну в круг Добра, и тайные добрые силы всего мира помогают ему, второй ввергает ее в смерч Зла, и силы ада рано или поздно погубят правителя и управляемых…
* * *
Спрашиваешь: «Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?»
Отвечаю: взойдет, когда погаснет факел Злобы…
Так говорил «старый дом, где он родился».
VIII
Владимирский собор
День встал золотым над Киевом. Ах, отчего я не Бальмонт?!
Нет, я не Бальмонт, я — другой
Еще неведомый избранник.
«Украиной» гонимый странник
С «малороссийскою» душой…
Ах, если бы я был Бальмонтом, я воспел бы этот день (26 декабря 1925 года по новому стилю).
Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Но печалюсь я о том,
Что в стихе бессильно-нежном
Нет ни золота, ни снега,
Нет ни солнца, ни мороза,
Лишь рифмованная проза,
Стоп, сомнительная нега.
* * *
Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Купола горят крестом
В небе синем, безмятежном.
Но еще небес синей
Тенью вышиты узоры.
Снег — парча, и вот на ней —
Крест, деревья, куст, заборы…
Снег — парча. Слепит, горит
Солнцем, золотом багрянит,
Нежит глаз и сердце ранит.
…..
Грек, француз, испанец, бритт,
Вам не знать, что нам знакомо:
Рим, Париж, Неаполь, Комо
Речь снегов не говорит
Белоснежность в золотом,
Золотистость в белоснежном,
Прорифмую целый том,
Все ж не расскажу о том,
Чем томлюсь в бессилье нежном.
Короче говоря, день был солнечный и чуточку морозный.
И я бродил. Бродил, «упиваясь» вновь ощущенной красотой Киева.
* * *
Владимирский Собор был открыт. Я вошел — седобородый старик, (быть может — еврей).
Матерь Божия стояла там во весь свой Божественный рост. Все переменилось: рухнули троны, ушли и погибли цари, самой России не стало… Но есть нечто непреходящее
Царица, Вечная Царица,
Народов всех и всех племен..
Она стояла вся та же, как и тогда, когда впервые я ее увидел еще мальчиком. Такие же были обведенные глаза, которые знают все, и такия же были скорбныя губы, которыя молят за всех… всех, всех, всех…
Ты у Христа-Царя — Денница.
Такая же Она была, когда я молился здесь, уезжая к «Деникину». Все те же были глаза, все видящие, когда я пришел сюда обратно, «с Деникиным». И все так же молились скорбные губы за всех, всех, всех, когда, недостойные удержать святой город, мы, деникинцы, ушли «в рассеянье».
Сколько лет пробежало «в изгнании»? «Le pain amer de Pexil!» [16] Неужели это я! Это не сон?
* * *
Храм был почти пуст. Мне потом объяснили, что это потому, что его захватили «живцы». «Живая церковь» мертвит. Они не поняли, что должно быть наоборот: «смертию смерть поправ».
* * *
Пели. Звуки неслись. Увы. «Живая церковь» умертвила и былую красоту.
Дух Калишевского еще витал над ними. Но так, как вырождающиеся потомки вспоминают достижения великих предков, т. е. как сквозь сон.
Киевские мальчики, «дисканты Калишевского», соединяли в себе «ангельский звук» детей с какой-то драматической красотой женщины. Он, Калишевский, как-то по-своему «ставил» мальчишеские голоса. От этого, сохраняя свободу и чистоту дискантов, звуки драматизировались в сопрано, и было это прекрасно.