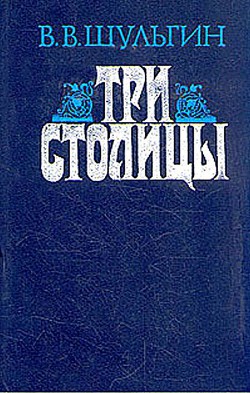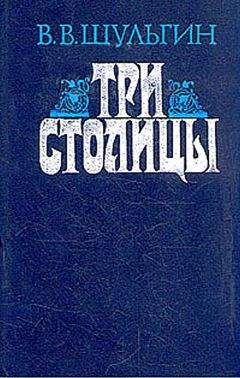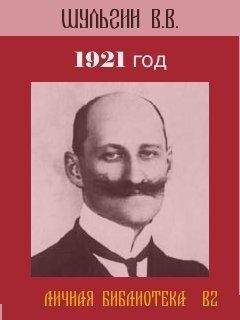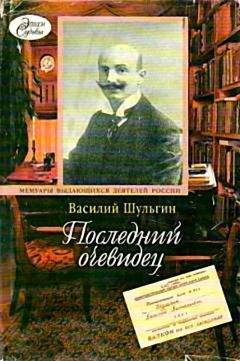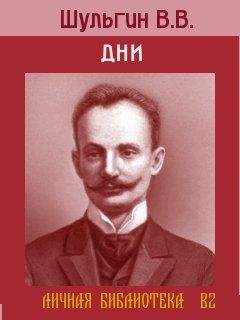IX
Святая София
Из Владимирского Собора меня потянуло в здание, которое первоначально называлось Педагогический Музей.
Поучительна его история.
Он появился на свет Божий с надписью:
«На благое просвещение русского народа».
Родителями были Могилевцев, который дал деньги, и Алешин, архитектор.
Здание прелестное, ловко собравшееся под стеклянным куполом.
* * *
Но недолго просвещали русский народ.
Пришла Украинская Рада, уселась под стеклянным колпаком и, погасив свет тысячелетней истории, объявила 35 миллионов кровных русских нерусскими.
Но надпись: «На благое просвещение русского народа» — еще держалась.
Однако пришел день, это был апрельский день 1918 года, выросли зловещие леса, и какие-то люди стали копошиться над буквами, уничтожая просвещение и зачеркивая русский народ.
* * *
Но им надпись не удалось снять тогда. Рука судьбы опустила на их голову гетманский переворот, и именно здесь, под этим куполом, была разогнана Украинская Рада. Надпись осталась.
Но ее сняли позже. Кажется, это было тогда же, когда этот стеклянный купол обрушился или его обрушили на головы сотен офицеров, взятых в плен при падении гетмана.
А затем…
Затем был Петлюра, большевики, Деникин, опять большевики…
* * *
Музей Революции. Да, да… Это хорошо. Когда революция переходит в музеи, это значит, что на улице… контрреволюция…
* * *
Я вошел. Но уже в вестибюле меня стошнило от гнусных плакатов и всякого рода этакой дряни. Кроме того, здесь было много слишком экспансивных для музея личностей. Еврейские барышни коммунистического вида сновали по всем направлениям. Я почувствовал себя «не вполне обеспеченным». У них в глазах — опять был вопрос:
— Что за тип? Откуда он взялся?
Положительно моя провинциальная внешность гомель-гомельского стиля слишком привлекала внимание просвещенной столицы Украины.
Столица! Увы… Киев деградировал. Столица нынче — Харьков.
* * *
Я ушел из музея. Пошел по Владимирской, которая сейчас называется улицей Владимира Короленко. На стенах театра висели какие-то афиши. Все то же: «Аида», «Фауст»… Коммунистических опер еще не сочинили. В этом именно театре разыгралась «Жизнь за Царя» XX века: здесь убили Столыпина в 1911 году.
По улице, залитой солнцем, шло много людей. Я еще раз и без конца всматривался в эти лица.
Где же «печать страдания»?
* * *
Я помню, когда в 1919 году я вошел в Киев с деникинцами, после восьмимесячного владычества большевиков.
Боже мой! Тогда «печать страдания» не нужно было отыскивать. Она лежала на всех лицах, похудевших, почерневших, утерявших свою твердо установленную киевскую миловидность. Она лежала на израненных, искалеченных домах, на заколоченных, умерших лавках и магазинах. Она чувствовалась в самом воздухе, раскаленном мукой безмолвия. И так было ясно: здесь прошел конь Аттилы, здесь прошел социализм.
* * *
Теперь в 1925?
Нет, теперь было иначе.
Страданье, конечно, есть. Но оно запряталось: оно иное.
На улице видно движение, извозчики, трамваи, автомобили. Торгуют магазины, манят витрины, радуясь вновь обретенным вещам… Много уличной торговли. Торгуют всем, всем, всем… Среди прочего мне бросилось в глаза обилие сластей. И еще — букинисты. Много, много книг разложено на улице. Все больше старые. Чего тут только нет. Среди других ярко выделяются томы «Россия» с двуглавым орлом и трехцветным флагом на красивой обложке.
В наше время за такую книжку расстреляли бы… Теперь? Теперь, по-видимому, этого рода кровавое безумие прошло. Можно торговать открыто «отреченной литературой».
Так смирился ортодоксальный коммунизм.
Я как-то читал в какой-то иностранной газете, что на вопрос одного корреспондента, что он делает во время «отпуска», Ленин ответил:
— Внимательно изучаю «1920» год Шульгина…
Так? Но если так, если Ленин его изучал, то он мог прочесть там нижеследующее предсказание:
«Белая Мысль победит во всяком случае…»
* * *
И вот она уже победила…
Да, она победила.
* * *
И потому лица людей пополнели, поздоровели, и потому миловидные киевские мещаночки опять длинной цветочной змейкой вьются по улицам и стогнам Матери городов Русских.
Некоторые из них в красных платочках, что красиво на солнце.
* * *
Вернулось Неравенство. Великое, животворящее, воскрешающее Неравенство.
В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения. Мертвящий коммунизм ушел в теоретическую область, в главные слова, в идиотские речи… А жизнь восторжествовала. И как в природе нет двух травинок одинаковых, так и здесь бесконечная цепь от бедных до богатых… И оттого вернулись краски жизни…
* * *
Появилась социальная лестница. А с нею появилась надежда. Надежда каждому взобраться повыше. А с надеждой появилась энергия. А с энергией восстановились труд ума и труд рук. И эти две вещи воскресили жизнь.
* * *
Конечно, слои переменились местами.
Первые стали последними… Но в конце концов — «кто нам виноват?»
Разве мы не имели все? Власть, богатство, образование, культуру?
И не сумели удержать.
До того ль, голубчик, было!
В мягких муравах у нас —
Песни, резвость всякий час…
Да, и вот «пропев, как без души» красное лето, мы теперь исполняем заповедь: «так пойди же, попляши».
Скачи, враже, як пан каже…
* * *
Мы были панами. Но мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя.
Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогоняют.
Так было и с нами: классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали.
Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз «из жидов».
Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать, иначе ее тоже «избацают».
Коммунизм же был эпизод. Коммунизм («грабь награбленное» и все прочее такое) был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей (музей революции), а жизнь входит в старые русла при новых властителях.
Вот и все…
И это ясно написано на улице Владимира Короленко, как и на всех других.
* * *
Памятник Богдану Хмельницкому стоит против Софийского Собора.
* * *
Ой, ты, батько Зиновий-Богдане… Вздернул коня над кручей! Смотришь вдаль. Что видишь? Сорок сороков горят Белокаменной. Что слышишь? Звон их по ветру доносится.
Что мыслишь? Царь Алексей Михайлович на Кремлевское крыльцо вышел.
Ну, что ж? Быть али не быть? Ох, высока ты, киевская круча, ох, широк, широк ты, Днепр…
Замерла казацкая степь.
— «Самое имя русское хотят задушить в нашей земле!» — поют в тишине днепровские струи. И кричит в ответ гетманское сердце:
— Да не будет сего!
— Да не будет, — шумит казацкое море. — Да не будет! Стрибай, батько! Стрибай, Богдане!!!
И гетман прыгнул. Высоко взвился степной конь, зацепил было за тучу, но справился.
— Под твою руку, Алексей Михайлович! Прими старое гнездо свое, древнее, Киев и с ним всю Малую Русь! Сбереги, Царь русский, Племя русское…