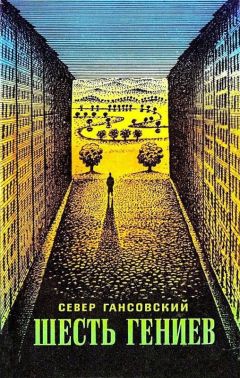— О, злопамятная, не забыла?!
— Конечно, ведь я чуть не упала в обморок.
— Как я терзал себя! У меня помутился разум… как со скалы прыгнул.
— А я! Только одно прикосновение, и не понимаю, как не умерла…
Рука ее скользнула за воротник, и мурашки рассыпались у него по спине. Только что пальцы ее излучали флюиды блаженства и неги, и вот уже тревога поползла из-под них мелкой нервной дрожью. «Ну же! Она ждет…» — сказал какой-то мерзавец, пошляк внутри. «Как! Немедленно?!» — смутилось желание. «Хм, настоящий мужчина…» — снисходительно начал мерзавец. «Заткнись!» — истерично взвизгнул кто-то, и голоса смолкли, но с дрожью нельзя было справиться… Сладкая материнская жалость проснулась в Анжелике. Она гладила его вздрагивающие плечи, прижимала к груди голову и шептала с блаженной улыбкой:
— Что с тобой! Что с тобой, успокойся!.. Не думай глупости…
Дрожь становилась тише, мельче, и Анжелика, потянув его за мочку, весело сказала:
— Э-эй, проснись! Ты проспишь наш бал. Думаешь, наконец, угощать меня?
Он живо встал, потер виски, лоб, налил в рюмки коньяк, зажег свечи и поставил пластинку.
— На брудершафт? — спросил он, подавая ей рюмку.
— О, конечно, пора перейти наконец на «ты», — рассмеялась она.
Они скрестили руки, выпили и захлебнулись в одном из тех поцелуев, которых выпадает, если повезет, два-три на целую жизнь, от которых подгибаются коленки и останавливается сердце…
Рюмка тускло звякнула, но не разбилась. Илья поднял тяжелые веки и обморочно сказал: «Немыслимо, немыслимо, какое блаженство!.. Как я хочу и как боюсь… тебя». «Такой странный, такой глупый… — бормотала она, целуя его в нос, подбородок, глаза, — давай танцевать».
— Нет, погоди, мне надо признаться и просить тебя…
— Matka Boska, какой торжественный! Настоящий президент. Тебе очень хочется произносить речь? Но я и так знаю, что хочешь говорить и просить. И разве нужно говорить, что я согласная?
— Боже, какая ты умница! Но погоди, неужели тебе не хочется слышать? Меня дважды в жизни почти принуждали говорить… но я не мог — язык не поворачивался солгать, а теперь, когда я сам… странно.
— Не понимаешь? Нам не нужна ложь, а они, бедные… И тоже слова не нужны, все очевидно. Поставь наконец танцевальное, у меня ноги не держатся на месте.
Илья склонился над проигрывателем, приговаривая: «Ты прости, Джуди, несравненная, божественная Джуди Коллинз. Нам надо что-нибудь погромче… бесовское…»
Они плясали рок, изводили себя в медленных танцах, пока не рухнули на диван. И снова желание сыграло с Ильей недобрую, глупую шутку: пока он неловко и нервно возился с одеждой, оно свернулось, съежилось и под шумок ускользнуло в норку, откуда посматривало мстительным глазом на бешеные муки уязвленной гордости. Она прижималась горячим любящим телом, а он сгорал от ненависти, отчаяния и стыда. Никакие уговоры, призывы и понукания не могли сдвинуть с места мерзкую клячу, и он убил бы ее, окажись под рукой подходящее средство и не шепчи Анжелика: «успокойся, успокойся… так должно было случиться… я измучила тебя… все будет хорошо… Ты молодой, сильный тигр, ты привыкнешь… сейчас не думай, потом — завтра, послезавтра… не дрожи, расслабься…» А он потихоньку плакал, судорожно вздрагивая под ее ласками. Наконец он затих, и она предложила спать.
Ее дыхание у него на плече, как волны мирового эфира навевали абсолютный покой, и с полчаса он был почти счастлив; но вот предательская мысль о том, что он не смеет шевельнуться, родилась и поползла по телу, щекоча и будоража… Она может проснуться и подумать, что доставила ему неудобство! Тут же захотелось повернуться на бок, высвободить плечо, стало жарко, что-то ползало по спине и щекотало в паху… Через несколько минут ему уже казалось, что все тело затекло, что кровь не циркулирует, что ноги отнимаются… Он терпел долго и мужественно, пока весь не покрылся потом. Тогда он разработал и успешно осуществил довольно остроумную операцию: упершись пяткой и затылком, он приподнял тело и медленно-медленно повернулся на бок, придерживая свободной рукой голову Анжелики и опустив ее затем на подушку. Торжествовал он, впрочем, не долго: Анжелика еще крепче обняла его и положила на него согнутую в колене ногу. К телесным мукам примешивалась боязнь собственного храпа; он подозревал, что во сне открывает рот; он опасался испортить воздух; он боялся, что изо рта его дурно пахнет…
И все-таки он немного спал. В какой-то момент сознание заволокло туманом, истаяли координатные оси пространства, следствия смешались с причинами… Когда он открыл глаза, Анжелика по-прежнему спала. Он склонился над ней и линия за линией начал изучать ангельский лик своей возлюбленной. Выпуклая гладь лба вливалась меж двух невысоких арок, через неглубокую ложбинку в прямое и тонкое русло носа. Ничто не предвещало перемен, как вдруг оно круто сворачивало вниз, отбрасывало в стороны два изящных завитка и, вконец истончившись, останавливалось на стыке двух плавных изгибов, волнами уходивших к щекам. Рисунок венчали дуга с распрямившимися кончиками и мягкая округлость подбородка.
Простые, чистые линии, — думал Илья, — ни одного излома, разрыва… Скажем, слегка изогнутая спинка носа таит в себе больше своеобразия, но у Природы мало прямых, она избегает, боится их… Разве что сосны, но и тут природа, словно опасаясь их устремленности, нахлобучила на них шапки… Только мертвое, сгоревшее дерево пикой упирается в небо. В прямом есть незамкнутость, устремленность в божественную бесконечность… прямая не материальна. Луч света, как частица божественного, вторгается в наш материальный мир и распадается в нем на мелкие осколки — отрезки. Прямая линия носа, возможно, тем и прекрасна, что несет в себе частицу божественного. Зато человек постиг идеальную сущность прямой линии и, ощущая в себе то же начало, принялся без счета возводить прямые и тем самым — исправлять природу. Все прямые — результат человеческой деятельности…
Унесшись мысленно столь далеко, Илья уже подумывал о том, чтобы записать кое-что, но Анжелика сделала слабое движение, и он вновь сосредоточился на ней.
Боже, такая беззащитная, слабая, в чужой стране, с ее очередями и грубыми продавщицами… Как надо доверять ему, чтобы решиться…
Нежность, граничащая с болью, заполнила его грудь, он наклонился и поцеловал ее в губы. Они порозовели.
Она вверяет ему себя: свои интересы, заботы, мечты, своих друзей, родственников, свою родословную и свое будущее, свои способности, музыкальность, знания… — всю себя: целый мир, микрокосм, как говорит Бердяев. Можно ли удостоиться большей чести! А он, что он может дать ей? Хм, странно, в сущности, ничего… Как он беден по сравнению с ней. В музыке — дилетант, невежда, в философии… ей это не интересно, в поэзии — профан, в литературе — тоже, неплохо играет в волейбол, хоккей, прилично плавает, но не таскать же ее на площадку… Ясно — она ослеплена и вскоре разочаруется, как только узнает поближе. Он ввел ее в заблуждение, искусно скрыв свои недостатки, свою ограниченность, и сегодня же обязан честно обо всем ее предупредить. Во-первых, она конечно же рассчитывала найти в нем опору и защиту. Но разве могла она предположить, что сам он до такой степени слабая, неуверенная в себе личность? Его вечные сомнения, колебания, — ни одного решения он не может принять твердо и мужественно. Вчера вечером… ужасно, ужасно. Во-вторых, она должна знать, что он законченный, неисправимый эгоист, он привык думать только о себе…
Солнце из красного гиганта успело превратиться в желтую звезду средней величины и проделать изрядный путь, когда Анжелика наконец проснулась. Притянув к себе, она поцеловала его пухлым утренним поцелуем: «Ты давно проснулся?».
— Да, впрочем, я почти не спал.
— Почему?
— Видишь ли, вначале… мне мешало сознание… что ты рядом…
— Matka Boska! Я только теперь могла хорошо заснуть, когда знала, что ты со мной…
— А позже я решил, что ты меня плохо еще знаешь… — мои пороки и недостатки, что я обязан заранее тебя предупредить, пока… еще…
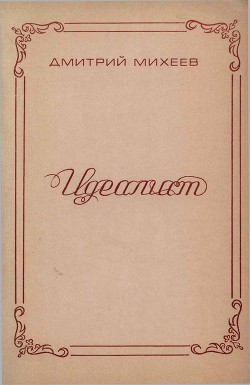
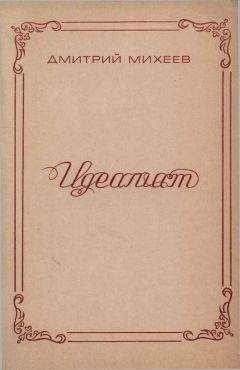

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)