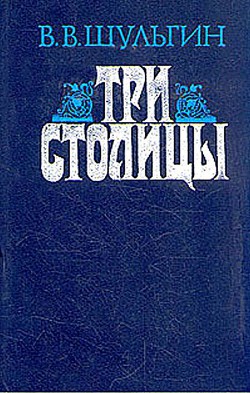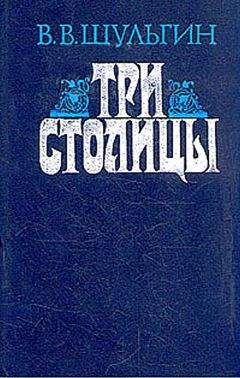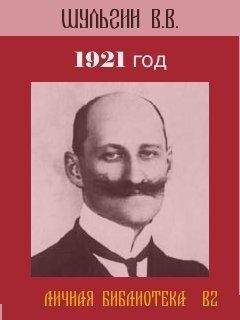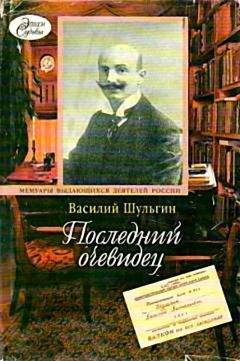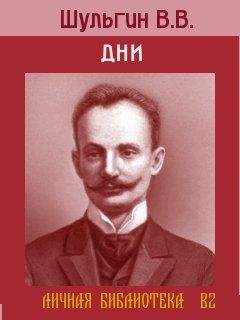Скоро я понял, в чем дело. Все то, что раньше называлось «острова», т. е. большое множество то нарядных, то роскошных, то попроще дач, захвачено коммунистической властью и превращено в «дома для отдыха».
Кто здесь отдыхает летом, я не знаю. Есть ли в них рабочие и крестьяне, или, как все в этой республике, и эти учреждения — «под псевдонимом», и здесь просто отдыхают члены коммунистической партии, то есть современная аристократия? Вероятно, так.
Сейчас же не было никого, и судить я об этом не мог. Но содержатся, видимо, эти дома в порядке, и нельзя не сказать, что неизмеримо лучше было поступить с ними так, чем бессмысленно разрушить и уничтожить. Кому пришла счастливая мысль сберечь таким образом ближайшие окрестности Петрограда, которыми он по справедливости может гордиться, не знаю. Но, по всей вероятности, это — заядлый контрреволюционер и белогвардеец.
Я шел по бесконечным аллеям, местами протаптываясь через свежий снег, и необычайная ласковость, теплота и уютность этого зимнего дня действовали мне на нервы. И я думал о том, будут ли владельцы, которым возвратят отнятые у них эти прекрасные виллы, будут ли они ими пользоваться лучше и больше, чем они это делали раньше.
Острова всегда были пустынны. Дачи большей частью принадлежали богатым людям, которые проводили лето в Крыму или за границей, а эти полудворцы пустовали в знаменитые петербургские белые ночи.
Когда такие дома пустуют, очевидно, они кому-то лишние. Но ведь место под Петроградом считано! И неправильно с высшей точки зрения, чтобы сии острова пустовали. Sapienti sat [43].
Особенно, что мне было почти что все равно, арестует ли он меня или нет.
Ну, конечно, это я преувеличиваю, но все же такое было настроение какой-то необычайной красивости всего происходящего… И было ощущение, что, что бы ни произошло, все равно, в конце концов, будет прекрасно.
Все было, все будет… Тишина, тишина…
Так говорил снег. А человечек не арестовал меня, а мирно о чем-то заговорил с будочником, и я даже подошел к ним — хотелось «покалякать». Но я только спросил, как пройти к трамваю, и они мне очень любезно рассказали, что нужно идти правым берегом, потом перейти Невку, и тогда выйдешь в Новую Деревню, что я сам знал не хуже их.
Пошел я правым берегом, когда начали уже зажигаться огни. До нестерпимости красиво ложился желтый свет из окон на совершенно голубой снег. Прошел мимо бывшего ресторана Фелисьен, который превращен в «дом для отдыха рабочих», кажется, номер 42. А на той стороне Невки женщины стирали белье тут же у реки — это зимою-то, на морозе!
Эти, кажется, были настоящие работницы, скорее жены рабочих. И ничуть им не помогло, что напротив уничтожили Фелисьен. Пожалуй, те, кто там проводил ночи в бессмысленных кутежах при старом правительстве, были все же мягче и добрее, а главное, совестливее, чем новые владыки.
* * *
Этак, пожалуй, прошел я в общем верст пятнадцать, и сил уж моих не было. С отменным удовольствием сел в трамвай № 2, который тут от века ходил. В трамвае скоро стала давка, какая-то гражданка усиленно мостилась мне на голову, но в общем было весьма благоприлично, ни скандалов, ни грубости, все, как приблизительно было раньше. Только публика много победнее, попроще, хуже одета.
Так доехали до Садовой. Я еще имел время до свидания с друзьями и пошел шататься по Гостиному Двору. Не особенно удобно было мне рассматривать вывески, и я смотрел витрины. Было здесь все. И ювелирные магазины были. Всякие колечки, брошечки блистали золотом и камнями. Очевидно, рабочие покупают крестьянкам, а крестьяне работницам. Но удивительно не это, а то, каким образом Чека не грабит эти магазины. Как она выдерживает искушение? Кто этих профессиональных грабителей так обуздал? Теперь они защищают священное право собственности «буржуазных хищников», таящихся за этими витринами. Дивны дела Твои,
Господи!
Стоит это какой-нибудь несчастный пролетарий около окошка и вспомнит, как батюшка Ильич приказывал: «Грабь награбленное». И слезы у него текут из глаз…
Прошло, и никогда не воротишь золотое времечко. Шевельнись тут, и те же самые чекисты, ущемив тебя между коленями, будут поучать:
— Знаешь десятую заповедь? Что сказано, мерзавец? Сказано: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». А что ж нэпман не ближний тебе? Как же не ближний, если Ильич приказал уважать. Какой народ несознательный, право!
* * *
И иконы продаются. В дорогих ризах, и крестики, какие хотите, можете иметь.
Нехорошо только, что иногда так бывает: в одном и том же магазине в правом окне — иконы, кресты и все церковные принадлежности, а в левом — всякие пятиконечные звезды, красные знамена и все такое коммунистическое, что из золота и парчи тоже делается.
* * *
И автомобильчики прокатные около Гостиного имеются. Только бы деньгу иметь, хорошо можно пожить в граде Ленина.
* * *
«Встреча друзей» назначена была в одном ресторанчике, в отдельном кабинете.
— Да-с, вы не думайте-с, — говорил мне приглашавший меня мой новый друг, — у нас здесь не Москва. Это в Москве отдельных кабинетов не полагается, по наивности думают, что за общими столами конспирировать нельзя. А здесь у нас умнее и тоньше. Отдельный кабинет? Сколько угодно!
Я вошел в знакомый вестибюль, посмотреть на аквариум, в котором плавали, очевидно, те же самые рыбки, что десять лет тому назад, по крайней мере мне показалось, что я узнал одну стерлядку. И поднялся в кабинеты. Гражданин лакей весьма предупредительно провел меня в оставленную для сего комнату. Через несколько минут собрались все, кому полагалось, принесли закуски и карточку, причем лакей, как и в былое время, поучительно-уверенно склонившись, ласковым баском уговаривал взять то или это, утверждая, что сегодня «селянка оченно хороша». Так как в хороших ресторанах они никогда не обманывают, то к этим указаниям нужно относиться со всем вниманием.
Водку закусывали икрой и семгой. Шампанского не пили — не по карману. Но его сколько угодно, и я даже заметил на Невском магазин, где надпись огромными буквами «Шампанские русские и заграничные».
Надсон когда-то писал о петербургских цветочных витринах, что они сияли из-за зеркальных окон.
Что бы он написал в наше время про сие заграничное шампанское?..
Ну, что там об этом распространяться… Всякому ясно.
* * *
Беседа наша текла мирно и интересно. К сожалению, я не могу ее здесь воспроизвести. Но смысл ее был приблизительно таков.
Не важно, что Зиновьев грызется с существующим правительством, то есть с большинством партии, не надо возлагать на это преувеличенных надежд. Но важны причины, почему Зиновьеву ерзается, почему он считает необходимым поднимать голос, протестовать.
Потому что слишком опасно все пообещать и ничего не дать, мало того — ухудшить положение масс, и затем, после этого страшного обмана, демонстрировать перед лицом народа, который ничего не забыл и очень многому научился, демонстрировать нарастание нового богатого класса, класса, к тому же ярко окрашенного в национальные еврейские цвета.
Страшно! Всем страшно. Не только Зиновьеву, но и Бухарину. Но Бухарин крепится и говорит: «Да что же делать? Возвращаться к прежнему, т. е. ко времени военного коммунизма? Опять грабить и опять резать? Нельзя. Это путь испробованный. Так что же делать, товарищ Зиновьев?»
Но товарищ Зиновьев ничего не может придумать, что надо делать. Он только кричит: «Караул! Боюсь!»
И он прав. Нарастает и нарастает грозное.
— Вот, — говорили мне, — вам пример современной психологии. Тут есть один матрос из старых. Из тех, кто был «красой и гордостью революции». Из идейных. Из тех, что верил, что, действительно, революция принесет что-то хорошее. Во всяком случае нечто уравнительное. С их точки зрения, он был героем. Он ведь Зимний дворец брал! Так вот он теперь присмотрелся, что делается. Увидел, что новые-то буржуи почище старых: грубее, жесточе, беззастенчивее… Первое время он как-то столбенел, просто как-то не мог в толк взять, как же это происходит! Ну, не верил — долго! И, наконец, понял. Так это надо было видеть! Надо было увидеть выражение лица этого человека, когда, убедившись, что все было ни к чему, все неправильно, все не так, это «все» он вылил в диком вопле: «Так зачем же я им трамперетрам-тарарам, зачем же я им Зимний дворец брал?!» Надо было это видеть! Трагедия… Взрыв вулкана… Ведь среди них были идейные. И они, конечно, были лучшие. Их разочарование горячо, искренно… О, они «им» покажут… в свое время.