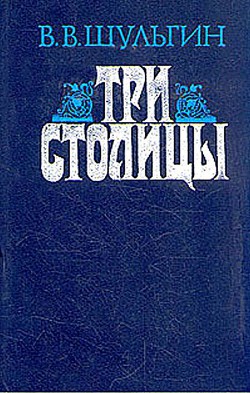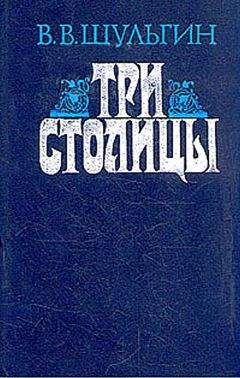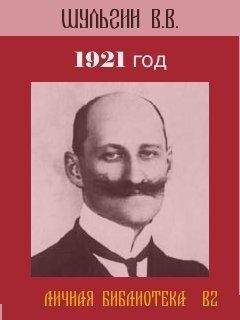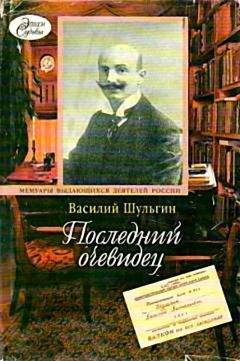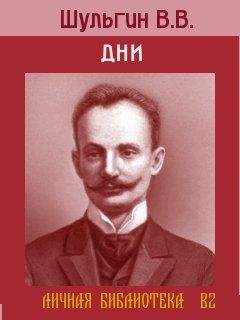* * *
После ужина разошлись каждый в свою сторону, но мой первый спутник пошел меня провожать и вдруг сказал мне:
— Вы немножко осмотрелись в «нашем Ленинграде»? Ничего себе «мы» живем, правда? Плохо только то, что ГПУ здесь свирепо работает.
Да, да, ведь об этом я как-то временно забыл. Это даже удивительно, как это легко забыть и как это опасно. Ведь в те времена, скажем в 20-м году, когда я жил под большевиками, вся жизнь была вообще сплошным кошмаром. И вот среди этого кошмара врывались по ночам в квартиры, грабили, бесчинствовали и затем голодных, изможденных, потерявших всякую силу сопротивления людей тащили в чрезвычайки и там расстреливали. Все как-то подходило одно к другому.
Но теперь, теперь было иначе. Вместо жутких темных улиц весело горит электричество, мы только что разошлись после хорошего «товарищеского ужина», в перспективе — спокойная ночь в гостинице, в удобной постели, в тепле и неге. И как-то мысль отказывалась верить в то, что под этой мирной поверхностью вод, тут же, сейчас же, бродят страшные акулы и что стоит зазеваться, и тебя нет. Да, весь лик России изменился с той поры. Но из этого не следует, что Чека, называемая нынче ГПУ, не работает и не уносит своих жертв. Она только делает это сейчас гораздо тоньше и умнее.
* * *
— Хотите, я вам покажу еще для полноты впечатлений один бар? Вы не думайте, у нас «бары» есть. Русских перерезали, но американские завели!
Пошли мы по Невскому и взяли направо, кажется, по Михайловскому. Словом, здесь в былое время была какая-то мирная не то кофейня, не то кондитерская.
Теперь не то. Сразу меня оглушил оркестр, который стоит самого отчаянного заграничного жац-банда. Кабак тут был в полной форме. Тысячу и один столик, за которыми невероятные личности, то идиотски рыгочущие, то мрачно пропойного вида. Шум, кавардак стоял отчаянный. Это заведеньице разместилось в нескольких залах. Но всюду одно и то же. Между столиками шлялись всякие барышни, которые продают пирожки или себя ad libitum [44]. Время от времени сквозь эту пьяную толпу проходил патруль, с винтовками в руках. Я заметил трех матросов, которые с деловым видом путешествовали из залы в залу.
— Что это? — спросил я.
— А это, видите ли, «внешкольный надзор». У нас ведь доблестному воинству разрешено свободно, в неслужебные часы, куда хочешь. Но зато есть всегда и дежурные патрули. Они безобразников своих вылавливают и отводят. А впрочем, мы очень неудачно пришли. К величайшему сожалению, я не могу вам показать этого места во всей красоте. Тут редкий день обходится без колоссального скандала. А бутылки здесь заместо междометий. Летают! Оно, впрочем, и к лучшему. Просто не безопасно. Развлечения его величества пролетариата бывают иногда очень экспансивны и непосредственны. Но все же вы можете заключить, что если русский человек желает выпить, то ему в Ленинграде «есть куда пойти».
* * *
— Желаете на закуску дня посмотреть нечто интересное? Как вы думаете, какое учреждение в «республике рабочих и крестьян» открыто всегда, т. е. не закрывается ни днем, ни ночью?
Подумав, я сказал:
— Наверное, государственный кинематограф.
— Нет, не угадали.
— Ну так библиотека, родильный приют, Агитпросвет…
Он рассмеялся и сказал:
— Идем.
Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект, а как он сейчас называется — не поинтересовался. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Поднялись по достаточно торжественной, ярко освещенной лестнице. Взяли какие-то билеты и затем вошли в залу. Посередине ее журчал фонтан, ниспадая на какие-то ноздревато-тошнительные камни, как почему-то бывает у таких фонтанов. Кругом стояли столики. Напротив была стена с огромными окнами, через которые виднелась другая зала, еще ярче освещенная, очевидно, концертный зал. На эстраду взошел солидный человек, впрочем, хорошо одетый, который не мог быть не чем иным, как баритоном. Действительно, он массивным голосом стал «просить позволения»:
— Позвольте, позвольте!..
И полился пролог из «Паяцев», нестерпимо надоевший и все же ужасно красивый.
Но мы предоставили ему изъясняться с публикой о страданиях салтимбанков и прошли в другую залу, дверь в которую виднелась налево. И там я увидел нечто, пожалуй, более интересное, чем творение Леонкавалло.
Отвратительный, мутный дым стоял в этой зале. От него тускнел яркий свет электричества. И физическая и психическая атмосфера этой комнаты была нестерпима.
Вокруг столов, их было штук десять, больших и малых, сидели люди с характерными выражениями…
— Что это? — сказал я. — Игорный дом?
— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем ни ночью!
— Как? Никогда? Даже для уборки?
— Никогда. Республика не может терять золотого времени. В четыре часа утра, в двенадцать часов дня, в шесть часов вечера — когда ни придите, здесь все то же самое: все те же морды и все тот же воздух.
Я не мог тут долго выдержать. Здесь было слишком отвратительно. Кроме того, моя строгая фигура, в девственно-синей толстовке, была живым укором этому ужасному падению коммунизма.
Мы вышли в соседнюю залу и у журчащего фонтана слушали баритонов и теноров, видели пляшущих барышень, воображавших себя балеринами, пили чай с пирожными и философствовали.
И фонтан, не умолкая,
В зале мраморном журчал,
И меня в мечтаньях рая…
Так вот, значит, каков социалистический рай! Не видя ее, я еще лучше улавливал коллективное выражение лица гнусной соседней залы. Мужские и женские лица, старые и молодые, сливались в одну скверную харю, нечто вроде химеры с лицом скотски-отупевшим.
Публика тут была разная. Были хорошо одетые, но большинство было мятых и грязных, очевидно, небогатых. От этого делалось еще сквернее, ибо не с жиру пришли сюда эти люди; их притянула страсть, неумолимая, севшая уже на них верхом, как ведьма на Хому Брута.
— Кто ж содержит этот притон? Неужели государство?
— Почти что. Номинально какое-то общество, но львиная часть доходов идет… на народное просвещение.
— Черт возьми!
* * *
Выспался я прекрасно в своем солидном номере, и никто меня не беспокоил. А утро следующего дня мы решили посвятить «осмотру музеев». Так ведь всегда делают «знатные иностранцы».
И вот мы пришли на удивительную площадь, что против Зимнего дворца. Здесь «они» сделали только одну гадость: сняли красивую решетку, с императорскими вензелями, — золотом по стали, — которая была вокруг Зимнего дворца.
— Они говорят, что это позднейшая пристройка, которая испортила первоначальный план, но на самом деле, конечно, — из-за вензелей…
Но единственная в мире Александровская колонна стоит исполинской свечой среди площади.
— Умора была с этой колонной!.. Они ее не решились тронуть, но ужасно им не нравится Ангел, что наверху. Так вот они соорудили этакий колпачок, довольно художественный, чтобы Ангела прикрыть. Но как его туда надеть? Ведь никак на колонну не взберешься… И вдруг нашлись: с воздушного шара! Чуть ли не весь Петербург собрался смотреть. Хохотали до упаду. Только это шар подвернут к колонне, а ветерочек чуть-чуть подует… Отъехал! И несчастные в корзинке болтаются с своим колпаком! Опять прицелились надеть, опять поехали! В толпе крик, гвалт, улюлюканье. Целый день возились. К вечеру бросили! Оставили Ангела в покое, вот он и стоит себе там…
* * *
И великолепная колесница над аркой генерального штаба стоит, хотя кони и просятся улететь в небо… Подождите лететь! Рано…
* * *
Дивная площадь. На ней, на пушистом снегу, упражняется конная милиция в красных шапках. Раздается раскатистая кавалерийская команда, и эскадроны маневрируют.