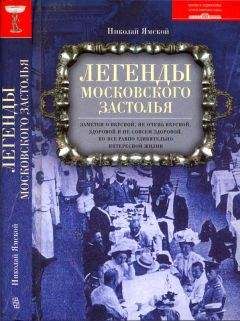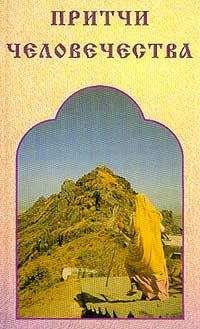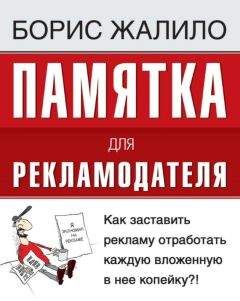Бред телефона, телефона молчащего и квакающего, икающего, пьяного, разъединенного, разбитого, задавившегося собственным шнуром… «Молчи, проклятая шкатулка!» — и через паузу: «На дне морском цветет: прости!»
Любой, молящий о прощении в пустынном помещении, — заведомый параноик.
Вы давно были в церкви?..
* * *
Она ушла. Он ушел. Все, начинавшееся, как слияние, кончается вспышкой. Стоящий далеко от нее, ты еще жив — но ты уже мертв. Радиация долгой разлуки: выпадают волосы и воспоминания, ногти стеарином стекают на фотопортрет, свет гаснет, газ светится… Рядом с этим домом стоял человек; вот его тень на фасаде. Думаешь, что горячо целуешь в губы, а на деле бьешься головой об стену, и кровь заливает тебе глаза.
Воображаешь ее с кем угодно, только не с подругами или родными. Иной раз и подруги бывают такие, что… Места себе не находишь — балкон, кухня, снова балкон. Голуби, сволочи. Почему «сволочи»? Потому что паранойя у меня, и маниакально–депрессивный психоз на верхосытку.
— А если это любовь?
— Ну, ты–то хоть, Отелло, не подкалывай…
* * *
Из истории выздоровления: «Пациент подолгу молчит, на любые просьбы огрызается, читает детективы и биографии вождей. По утрам пьет ананасовый сок, часами занимается гимнастикой, принимает контрастный душ. От кофе отказывается, утверждая, что «кофе омрачает». В ходе краткой беседы удалось выяснить, что себя он считает существом способным и перспективным, но эмоционально черствым, даже бездушным, хотя в принципе доброжелательным. На вопрос о степени и характере полового влечения ответить отказался, заявив, что это не имеет значения и является вмешательством в частную жизнь. Спит много и крепко. Аппетит вялый, но постоянный. Стул твердый, регулярный. Рекомендуется: выписать пациента к чертовой матери и не морочить мне голову.
Франкенштейн».
Мы покончили с надеждой,
Мы погибли для любви,
Из сердца совесть выжгли мы дотла.
Мы на муки променяли
Годы лучшие свои:
Спаси нас Бог, узнавших столько зла!
Киплинг
Надежда — хороший завтрак,
но плохой ужин.
Бэкон
Есть пессимисты и оптимисты, экстраверты и интроверты, счастливчики и неудачники, идеалисты и материалисты — нет лишь тех, кто вовсе не надеялся. Не уповал. Не держал на чердаке сознания своего белого голубя.
«Вся жизнь впереди — надейся и жди!»
Сейчас звучит издевкою, а в детстве не звучало. Мир был туманен. И не от того, что сладостные слезы застилали глаза: он реально был размыт, многовариантен. Разве можно было в первом классе заурядной средней школы сказать, что из кого выйдет? А уж самому первоклашке хотя бы приблизительно обрисовать свое будущее и вовсе не под силу.
В детстве ВСЕ может быть.
Дети еще не знают, что есть успех, карьера, достаток, досуг, любовные утехи, семья, дети. Они не считают это важным, их туманное сознание совсем другими вспышками пронизано, иного света — нездешнего. В словах это передать невозможно. Может быть, единственное подходящее слово — бессмертие.
Потом оказывается, что люди умирают. («Но я‑то не умру.»)
Мой одноклассник занимался парашютным спортом. На десятом прыжке парашют не раскрылся. Девятый класс. Похороны. Школьный двор переполнен. И переполнившие его сами полны не горем — страхом. Он, из хорошей семьи мальчик, к девятому — своему выпускному — классу так и не успел познать женщину. Он много чего не успел, много чего ждал. Умирая в свой черед, я вряд ли буду счастливее его.
К окончанию школы надежды обретают очертания, наливаются плотью. А вместе с тем типизируются, становятся удаленным общим местом, чем–то вроде прилавка, к которому выстроилась несусветная очередь. И поет над головами Юрий Лоза
О далеких мирах, о волшебных дарах,
Что когда–нибудь под ноги мне упадут,
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят, и любят, и ждут
Меня…
Легкие логические неувязки извинимы общим пафосом Иванушки–дурачка, не признающего иной рыбалки, нежели ловля рыбок золотых.
В детстве надежду и мечту еще легко перепутать. А в очереди не до грез — твой номер чернилами выведен на ладони.
И тогда надежда становится циничной. Один надеется безнаказанно сделать подлость. Другой надеется выстрелить первым. Третий надеется, что благосостояние его будет расти с каждым годом, больше того — с каждым днем.
Четвертый уже ни на что не надеется… — у него и так все есть.
Оказывается, человеку не так уж много надо. Совсем мало, сравнительно с розовым детским маревом. И достичь всего этого — вполне реально. Нет такой цели, которой бы нельзя было добиться. Нет профессии, которую нельзя освоить. Нет женщины, которую нельзя после более или менее длительной и изощренной осады завоевать. Нет языка, который нельзя выучить. Нет Бога, в которого нельзя поверить…
Другое дело, что за осуществление своих надежд надо платить. Чем же? Стремительно сокращающейся дистанцией между тем, что ты есть (что ты имеешь), и тем, на что ты надеешься. Своеобразная корректировка курса — ты подтягиваешь к себе линию горизонта, и пересечь ее теперь — раз плюнуть.
— Как жизнь?
— Удалась.
Мы очень смеемся по этому поводу…
В общем хоре безумцев различите и мой фальцет. Говорить о любви, — что может быть пошлее и бессмысленней? Мы не верим, когда говорят, что каждый смыслит в медицине или футболе — не каждый. Зато уж о любви каждый замолвит словечко, заветное, выстраданное… В мировой библиотеке за любовью самый длинный и высокий, самый запыленный стеллаж. Об удельном весе «любви» в фонотеках и видеотеках страшно даже вспоминать. Каким бы мудрым ни был человек, стоит произнести «любовь», — и все, попался, как рыба на крючок. И понесло его, потащило — письма, стихи, записочки, песенки, труды, трактаты, затраты… Что я в сравнении с этою горой человеческих познаний? Так, чиркающая по бумаге (чирикающая!) мелочь. И суждения мои могут иметь хоть какую–то ценность лишь в качестве характеристики времени и места, «где–и–когда» все это пишется. А стало быть — долой цитаты! Цитаты ничего не доказывают, из них можно извлечь экстракт на любой вкус.
Но от парочки цитат все же не удержусь — просто чтобы показать читателю, как хорошо писали о любви раньше и как плохо (ведь я и себя сюда включаю, в «здесь–и–теперь») пишут теперь. Итак, блаженный Августин:
«Я прибыл в Карфаген: кругом меня котлом кипела позорная любовь. Я еще не любил и любил любить и в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, что бы мне полюбить, любя любовь: я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек…
Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания… Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какою желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры…»
Какой стиль! Сколько темной воды в каждой фразе! Что за чудная соразмерность эпитетов! Разве нынешние так пишут? Взять хотя бы Лимонова (я Лимонова очень уважаю, я считаю, что ему палец в рот не клади) или Генри Миллера, этих признанных корифеев практической философии любви. — Разве они обладают подобным слогом? Вот последний изъясняется в своем романе «Sexus»:
«У меня любовная горячка. Смертельная болезнь. Одна–единственная пылинка перхоти способна вызвать у меня судороги, как у отравленной крысы».
Перхоть… крысы… Эволюция жанра: так ведь скоро о любви станут писать даже не площадными словами, а и вправду кровью, слюной, семенем… И все для того, чтобы добиться того же эффекта, к какому стремился и блаженный Августин? Нулевого!
Ибо как никого ничему не научил своею велеречивостью богобоязненный стародавний монах, так не воспримут и позднейшие откровения. Что толку рассуждать о всеобъемлющем и всеобщем! Каждый хоть раз в жизни любил «по–настоящему», наверняка воображая себя единственным любящим на земле, и чужие выверты попросту не воспринимает. А посему я категорически отказываюсь в биллионный раз выводить «формулу любви». Письмена эти — на песке и неизвестном языке; но, может быть, имеет смысл поговорить об отношении к любви?..
Современное (то есть, мое) понимание состояния любви вкратце можно изложить так: этим не следует гордиться, это не возвышает. Все мы смешны в любви. Все эти «зайчики», «солнышки», «душечки»… Искренний или наигранный алогизм поведения и слов. Любовь, как китчевая форма философии, переводит на общедоступный язык сложнейшие понятия и явления, упрощает отношения между ними до треугольников, магических квадратов и прочих геометрических фигур.